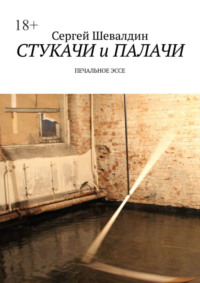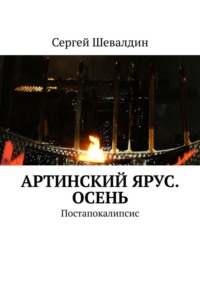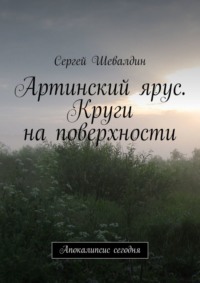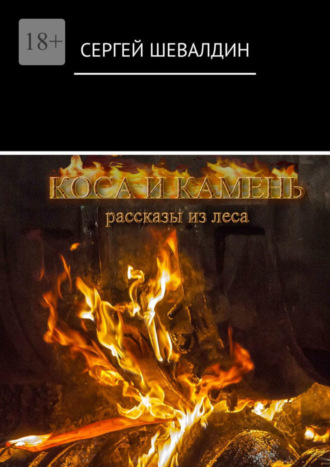
Полная версия
Коса и камень
Зачастую даже не знаю, кто кого выгуливает – я Марата или Марат меня. То, что прогулки с Маратом на меня влияют достаточно благотворно, так в этом я уверен. Без приключений и бодрых эмоций гулять мы попросту не умеем.
А летом собачьи прогулки даже некий прибыток приносят – довольно часто бывает, что ведро добрых грибов попутно собираем. Лес в окоеме пока еще щедрый. Доходит до того, что супруга возмущается оттого, что переработать лесной урожай нет ни сил, ни времени, ни желания. Собирать грибы – сплошное удовольствие, а вот подготовить и заготовить правильно – изрядный труд. Грибы, кстати, очень быстро приедаются.
Попутно я во время прогулки валежник присматриваю – очень полезное дело напилить кубов этак пять падшей березы для разжигания бани. Или из чисто эстетских побуждений обнаружить какую-нибудь живописную корягу. В кулацком хозяйстве все сгодится.
Но продолжим о прогулках с Маратом. В любом случае, занятие это не скушное. Но сейчас вновь стало несколько печальным: дело в том, что у песика с детства побаливает сустав левой передней лапки. И по весне и осени Марат начинает прихрамывать. Лечить, конечно, пробовали, всяческие снадобья и специфические кушанья использовали. Но ежегодно с климатическими обострениями песик начинает на лапу припадать. Приходится сокращать маршрут гуляний и давать Марату отдыхать. Отлеживается он, как правило, по выходу из леса. Лежит на снегу минут десять, а я в это время трубочку спокойно покуриваю. Кто понял жизнь, тот не спешит.
На незалеченную детскую травму Марата, естественно, влияет переедание – очевидно, что диета пошла бы ему на пользу. А вот с диетой как раз самый больной вопрос всей нашей дружной семьи.
Главная беда в том, что Марат лабрадор. А главное для лабрадора – это всегда быть рядом с людьми. Потребность такая. Жить вместе с людьми, радоваться вместе с ними, сопереживать. Быть всегда вместе с хозяевами. Да и понятие «хозяин» для лабрадора вообще, я считаю, не существует. Лабрадоры оперируют таким понятием как «мой любимый человек». И это нужно заслужить.
Заслужить – это не значит холить и подкармливать, это значит честно и всей душой общаться с песиком. Разговаривать с ним почаще, разговаривать точно также, как с добрым человеком. Как с другом. Как с любимой женщиной. Лабрадор живет добрыми эмоциями. Такой он эмоциональный паразит.
Любовь моей супруги к Марату воистину безмерна – «мой дорогой», «мой золотой» и прочие комплименты звучат постоянно. Верочка ласкова и ее очень любят кошки и Марат. И я тоже люблю. Но дело в том, что не может она гулять с Маратом – песик весит три пуда. Столько же, сколько и Верочка. Один рывок поводка – а Марат очень любознателен, потому частенько поводок дергает – сбивает Верочку с ног. Лабрадор весьма мощная собака.
Марата обожают кошки. Проблема наших кошек в то, что благодаря Марату они совершенно не боятся собак. Живут рядом с ним, иной раз даже ходят по нему. Сейчас, например, элегантная юная черная кошечка Габриэль (жена считает, что в честь Коко Шанель свое имя получила, я – что в честь Питера Габриэля из «Genesis»), завела привычку спать у Марата под боком. Марату этакая фамильярность явно не нравится. Но терпит – считает, что существо мелкое и недостаточно разумное.
Дружба с Маратом обоюдна, душевна, настойчива и в чем-то утомительна. Порой даже напрягает. Дело в том, он откровенно скучает без меня. Если я ненадолго уезжаю из дома, то он ложится к воротам и ждет. Ждет, несмотря на дождь и холод. Живет этим ожиданием. Благо, если супруга остается дома и уговаривает Марат зайти в хату.
Мне поневоле пришлось изрядно сократить привычные забавы – на рыбалку стал ездить значительно реже. Выезды на рыбалку оборачивались различными казусами. Как-то осенью уехал с другом, изначально предполагая ночевку. Съездили весьма удачно, я даже вполне трофейного хариуса изловил, но вернувшись через сутки домой понял, насколько катастрофичным было мое отсутствие.
Марат не только настойчиво бдил у входа в ожидании меня, но среди ночи учудил жуть и трепет. Во двор из леса забрел ежик, которому Марат учинил реальный допрос с пристрастием. Яростно рыл вокруг него ямы, громко облаивал, катал по двору, словно мяч. Устроил кошмарную «варфоломеевскую» ночь. Мало того, что Верочка полночи по двору с лопатой бегала, пытаясь ежика от Марата спасти, так еще и соседям бессонницу изладили. Уж слишком гулко и звонко Марат лаял. Хотя лабрадор априори величается «молчаливой собакой» и «добродушнейшим созданием». В любом случае я понял, что мое отсутствие очень чревато. А ежика Марат все же «заиграл», погиб лесной гость.
Лабрадор, несомненно, изначально добрейшая собака без зачатков агрессии. Но пес весьма крупный, потому казусов с ним предостаточно. А еще любознателен до азарта: как-то засунул морду в соседскую подворотню, а там тогда еще проживал старенький азиат. Азиат за морду и ухватил его своей пастью. Захлопнул зубами как крокодил. Жестокая была история, у Марата до сих пор около глаза шрам заметен, до и я руку изрядно травмировал, когда песика вызволял. Ветеринары тогда сказали «Марат сделал наш день!». И не только ветеринары – мне хирурги с большим любопытством руку зашивали.
Как-то так получилось, что именно посредством Марата мне пришлось плотно ознакомиться с современной медициной. Однажды, выгулявши собак, вернулся из леса, заварил кофе в турке, забил трубочку табачком и хотел благостно оттопыриться, как на меня абсолютно неожиданно обрушился жесткий приступ прободной язвы. Были все предпосылки дать дуба и сыграть в ящик, но, благодаря местным хирургам, удалось выжить. Спасли меня добрые люди и св. Ян Андерсон. Но Марат грустно ждал моего возвращения, две недели ждал. Похоже, считал, что именно он во всем виноват.
Скоро вновь пойдем с Маратом и Малым в лес. Природу будем инспектировать, физические нагрузки совершать и физиологические потребности исполнять. Будем жить. Постараемся жить без грусти и подольше. А то всякое в голову приходит.
Вчера во время прогулки лирика Роберта Бернса на меня обрушилась:
В полях, под снегом и дождем,
Мой милый друг,
Мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг,
От зимних вьюг.
А если мука суждена
Тебе судьбой,
Тебе судьбой,
Готов я скорбь твою до дна
Делить с тобой,
Делить с тобой.
Это я на прихрамывающую лапку Марата глядел. Мысли всякие размышлял. Но такова лирика шотландская. Лучше б, конечно шотландский Monkey Shoulder. Ибо очень правильный вискарь. Его, кстати, Ян Андерсон очень уважает. А он знает толк в шотландской лирике.
Хоррор и недотыкомка
И о Тургеневе, мягко говоря, Иване Сергеевиче. 170 с лишним лет назад он написал прекрасный рассказ «Бежин луг». И сейчас этот рассказ изучают в российских школах.
Все, конечно, сразу ожидают, что начну рассуждать про об изумительном описании природы и даже, быть может, насчет пресловутых «тургеневских барышнях». Но описания природы и всяких прочих разностей ищите у самого Тургенева, а про барышень… Ну где ж сейчас эту «тургеневскую барышню сыщешь?
Это во времена моей юности «тургеневские барышни» встречались постоянно. По крайней мере мне лично. Были они весьма жеманные и чопорные, но портвейна отведать не отказывались. Так и заявляли: «А белое я не пью!». С придыханием. В те времена (так же как и сейчас времена были суровые и героические, в иных мы не живем!) «белым» считались три или четыре, уж не помню, наименования водки.
Выбор водки был не особо широк, но вкус и цвет единообразен. «Сучок» этакий. Кстати, из-за этого однообразия и завелась стойкая традиция засовывать свежеприобретенную водку в холодильник и даже в морозилку. Если, естественно, холодильник был в наличии. Чтобы холодом вкус посконного русского напитка перебить. Русский, а тем более – уральский, холод всякую тварь исправит. Пьешь, бывало, и ежишься от холодка. Зато душу греет. Не то что сейчас, сейчас даже и греть-то нечего, бездушно все и бездуховно.
Поскольку «белым» считалась водка, то «тургеневские барышни» тех времен пили «красное». «Красным» считалось все, что не водка: и вермут, и портвейн, и плодово-ягодное, и фруктовое, и прочее. Даже сухие вина считались «красным». Вне зависимости от цвета и производителя. Разве что шампанское «красным» не считалось. Не из-за патриотизма и высокой политизированности (шампанское было «советским шампанским»), а из-за шипучести. Все, что шипело – то и было шампанским.
Напившись «красного» «тургеневские барышни» отказывались от своих жизненных принципов и возвращались к обыденности. Оно и к лучшему. Иначе бы последующим поколениям, как говорится, «век воли не видать». Впрочем, воли и до сих пор не видно. Лишнее все это, начальство такого не поощряет.
Потому не будем мусолить и сплетничать про «тургеневских барышень», а перейдем напрямик к рассказу Тургенева «Бежин луг». Не зря ж Тургенев его писал.
Случилось, что очень своевременно побеседовал с пареньком, который как раз этот рассказ и изучал. Вернее, не он изучал, а педагоги требовали от него изучить. Никаких особых претензий к ученику или к рассказу. Претензии, скорее всего, к суете мегаполиса.
Не буду повторяться о коллизиях рассказа – ну, там, как нынче говорят, фолк-пати с элементами трэша. Легкий хоррор и июльский хэллуин, образно говоря. Добро пожаловать в детский Ад, так сказать.
Понятно, что по нынешним просвещенным временам охотника, подглядывающего и подслушивающего детей, обвинили бы как минимум в нарушении правил охоты (дело-то как бы было в июле). А по максимуму раскрутили бы его на всякую безнравственность – вуайеризм и педофилию. А родителей детей, оставленных без присмотра, грозило бы отлучение от родительских прав. Но повезло мужику, легко отскочил. Да и деток без отцовства-материнства не оставили. Потому что описываемые в рассказе дела происходили во времена дикого царизма.
Но вернемся к рассказу, вернее – как его преподают. Неожиданно для себя выяснил, что нынешние ученики не знают, что такое «ночное». И педагоги, похоже, тоже.
Вполне вероятно, педагоги под «ночным» стеснительно и скромно подразумевают близкую им эротику, но отнюдь не выпас лошадей, выгул их на сочной луговой травушке после напряженных деньков русского сенокосного июля. И «ночное» – это такая детская работа, необходимая и уважаемая. Дело нужное, и дети этого дела не чурались.
Нынешним деткам работать запрещено. Или просто не интересно. А еще, не исключаю, что и лошадей-то многие вживую не видели. Потому что давненько лошадей и коровушек повырезали да подъели. Обычная совсем еще недавно сельская животинка стала объектом экзотики. Фоном для удачного сэлфи.
Поэтому упор в расшифровке «нерелевантного месседжа», коим сейчас фактически является «Бежин луг», преподаватели делают на «великий и могучий» язык, на котором рассказ написан. Про труд детей, посильно помогающих родителям вести хозяйство, не упоминается. Не акцентируется этот сомнительный момент.
Да и про особенности сельского хозяйства тоже никто особо не распространяется. Зачем пылкой урбанистической юности это дегенеративное плебейство? Тем более, что детский труд считается формой эксплуатации и признан незаконным.
И это не пробел в образовании, это провал в мировоззрении и крутейший облом по части модного сейчас патриотизма. Слишком далеки все эти истошные высокодуховные патриотизмы от реалий вообще и русской природы в частности.
Как бы то ни было, но «Бежин луг» до сих пор преподается в школе. Не исключен из школьной программы. Учителя рассказывают школьникам об точно и красочно выписанных образах детей, о невероятно сочных прилагательных и метких существительных. Про тот самый «великий и могучий».
Все это изначально однобоко, если педагоги не могут объяснить, какого же черта жестко несовершеннолетние дети делали ночью в местах, где днем Макар телят не пас. Без присмотра родителей! И кто им вообще разрешил работать?!
Приходится упираться в правила и красоты русского языка. Который «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора…».
Такая вот недотыкомка, Иван Сергеевич!
Эволюция и тапки
Тараканы возвращаются. Уже несколько лет в Екатеринбурге панически полыхают сообщения, что тараканы вновь оккупируют многоэтажки. И они, как обычно, практически неистребимы.
Жалобы жильцов и ответственных квартировладельцев на появление тараканов стали обычным явлением. От них, казалось бы, уже начали отвыкать – в начале ХХI века тараканы тихо ушли из мегаполиса невесть куда. Массовый исход тараканов связывали с повальным квартирным ремонтом и использованием современных заведомо химических стройматериалов. Посчитали, что тараканам стало неуютно.
Но сейчас горожане разыскивают заветные карандаши «Машенька» и закупают атакующие насекомых баллончики. Вызванивают фирмы, занимающиеся квартирным обеззараживанием. Возмущаются на торговые центры, где тараканы свободно гуляют, а честного потребителя без QR-кода не впускают. Шокируются витринами сетевых магазинов, где тараканы бродят по предметам, изображающим еду. Топчут имитацию и суррогаты, главное достижение нашей суровой эпохи.
Домашние животные весело играют с тараканами, вылезшими на свой естественный моцион. Жизнь налаживается, жизнь удалась.
Мне доводилось не просто банально бить тараканов тапком, но и наблюдать шуршащий ковер из тараканов, образующийся ночью при включении электричества в неблагополучной квартире вполне адекватной дамы, прежний муж которой был конченым наркоманом. Приходилось любоваться длинными женскими ногами, брыкающимися из опасения, что здоровенный, величиной с кулак пятилетнего пацанчика, мадагаскарский таракан с разбега по кухонному полу заберется на весьма приличные женские конечности. Случалось все это в квартирах, где с тараканами пытались бороться. Но тщетно.
После очередных зачисток, сметая веником на совок трупики падших насекомых (иной раз чуть ли не ведро наполнялось), приходилось лишь надеяться на то, что тараканы испугались и больше не вернутся. Но они возвращались. И будут возвращаться. Тараканы смелые и самоуверенные.
А еще тараканы самодостаточны. И как же иначе, если их эволюция продолжается уже более 300 миллионов лет. Они, если вы помните, гуляли по зарослям гинко в нижней перми, ползали по Артинскому ярусу. Прошли через все катаклизмы, разрухи и неудобицы, пережили геликоприонов, мамонтов и тиранозавров. Несмотря ни на что!
300 миллионов лет – это вам не какие-нибудь очередные перевыборы какого-нибудь либерального парламента. Это такой срок, перед которым даже Великая Октябрьская революция невзрачна как дохлый сперматозоид. И вот против существа, имеющего за своими хитиновыми плечами нескончаемую масштабнейшую генетическую память предков, вы с каким-то сомнительным карандашом «Машенька»…
Гордыня, как известно, великий грех. Не грешно ли человечеству считать себя Вершиной эволюции, когда обычный и невзрачный таракан в лучшем случае считает человека всего лишь удобной и комфортной вершиной своей пищевой цепочки? Нужна невероятная отвага, чтобы бороться с существом, история которого необъятна и неохватна, помахивая каким-то гламурным тапком китайского производства. И отдельно насчет тапочек: это в прежние времена опрометчиво утверждали «кто первый встал – того и тапки!». Нынче все тапки китайские, чужого нам не надо.
Но мы живем в суровые героические времена, господа. И в борьбе обретем мы право свое. Или подтвердим тараканам свои права на сосуществование. Не более.
Крещенье и коса
Крещенье. В этот суровый и героический день, когда все свободолюбивое население державы с шутками и прибаутками весело сигает в ледяную иордань, я натираю поясницу самогоном, настоянном на дохлых пчелах. Можно, конечно, натирать и истошно рекламируемыми актив-гелями, они тоже порой пользительно действуют, но для меня самогон более убедительное средство. Самогон, все-таки. Это звучит более жизнерадостно. Издает запах оптимизма.
Поясницу мне пересекло на днях, что-то там хрустнуло и заскрипело. Не знаю отчего. Или во время прогулки по лесу с собаками неудачно оступился с узенькой тропки, или дровишки слишком размашисто колуном помельчил, то ли переборщил, лопатой размахивая, изобильные снега убирая. Причин может быть много, но результат в пояснице – хрустит спина. Слегка скрючило.
Уверенно скажу, что во времена back in USSR подобной напасти вообще не было. По крайней мере со мной. Энергия, здоровье и тревожная жизнерадостность тогда била ключом. Но даже тогда я в прорубь если и сигал, то только по неосторожности. И выкарабкивался оттуда обязательно с матом.
Даже в детстве. Помню провалился на тонком льду, катаясь на коньках, посреди пруда и очень удачно выполз из полыньи. Потом до хаты с километр с мокрой одежде торопливо бежал и слегка промерз. За что и отхватил от деда, который меня на горячую русскую печку запихивал, завернув в полушубок.
А чтоб специально посреди зимы окунаться в прорубь да еще и добровольно… Это лишь один раз со мной случилось, лет тридцать назад. Как раз в эпоху ликвидации USSR. Тогда среди публики ширилось и расплескивалось какое-то бахвальное свободомыслие и отъявленное духоборство. Бездуховное якобинство, оголтелое варварство и розыск общественно-полезных приключений на свою задницу.
В неисчислимых количествах развелись всякие сектанты – «ивановцы», «моржи» и другие поклонники нетрадиционных оздоровлений. Искали в здоровом теле задорный дух. Одни со счетчиком Гейгера повсеместно бродили и радиацию изучали, другие стали маниакальными психотерапевтами и знатными костоправами, а иные вспомнили об обряде крещенского купания. Насчет православия тогда особо не заморачивались, это позднее подошло. Но прыгать в полынью стало модно.
Тем более, что в наших краях на водоемах в те времена обязательно выпиливались проруби и постоянно очищались от льда. Потому что дамы в этих полыньях полоскали выстиранное белье. Стиральных машин в продвинутом нынешнем исполнении тогда не было, а с водопроводом и до сих пор проблемы существуют. И дамы, провернув белье в круглой центробежной машине «Исеть», в целях экономии, складывали свою стирку в корзины, ставил и на санки и тащили к прорубям, где и прополаскивали. Так было удобней и проще.
Один мой друг детства в те времена работал чистильщиком прорубей. Инструмент у него был – пешня, совковая и снеговая лопаты, топорик и сачок для извлечения-вытаскивания льда. Все это складировалось на сани и он с утра обходил все специально вырубленные полыньи на местном пруду и производил зачистку. Вознаграждался за это вполне приличной зарплатой в поселковом совете.
С утра прогулялся по пруду и весь день свободен. Можно и водку употреблять. Такая экзотическая специальность была, но не знаю, как она официально обозначалась. Сейчас и не узнаешь – помер друг, не дотянув до пенсии. Но должность в любом случае муниципальная, чиновничья. Советник по ледяному походу, вероятно. Кстати, товарищ на ночь в полыньи ловушки -«морды» всегда ставил. Частенько неплохие уловы случались.
И вот в такую полынью как раз перед Крещеньем я и решил запрыгнуть. Чтобы написать об этом репортаж. В местечковой районке тогда работал. Неплохая, кстати, газетка была – в те времена в народе еще теплилась тяга к печатному слову. Решил откликнуться на народные чаяния, одним словом. С соответствующими фотографиями, конечно. Фотограф тогда был попутно и водителем редакционного УАЗика. Поэтому мы договорились с ним, что поутряне он меня заберет из дома с необходимым для грядущего подвига скарбом. А именно с валенками, полушубком, полотенцем, и литром водки.
С водкой, напомню, тогда случилась очередная напряженка. Водку давали по талонам, две бутылки одной персоне на целый месяц. Скорбные были времена, но не для всех. Поскольку талоны на водку печатались в местной типографии, то лично у меня недостатка в них не было. Конечно, на талоны нужно было еще и печать поставить. Но сделать печать, даже липовую, для типографских умельцев проблему не составляло. В прежние времена навыки и умения ценились выше, чем сейчас толерантность и лояльность.
Утром перед прорубным подвигом случился холод – градусов под 25 приморозило. Я уж начал тихо надеяться, что ныряние в ледяную воду перенесется на более благоприятное время, поближе к весне, но водитель-фотограф все-таки завел машину и приехал. Загрузились в авто, кинули на заднее сиденье шубу с валенками, двинулись к полынье. Обсуждали по пути насчет того, как объектив фотоаппарата себя поведет, сдюжит ли холод.
Но приехали на берег, рассупонилися я слегка, полотенце на плечо закинул, фотограф фотоаппарат из-за пазухи вытащил – держал его ближе к телу, что не подмерз. Взяли с собой флакон водки, стакан граненый, ну и про закусь вспомнили. О закуске, конечно, не озаботились. Но водитель вспомнил, что накануне заезжал к теще, а та заботливо выдала ему баночку с неким умопомрачительным хреном. Хрен с этом банкой заночевал в машине и, естественно, замерз. Но банку открыли, ножом отколупнули кусок содержимого размером с полкулака. Откровенного мерзлого, но отгрызть, чтоб закусить можно.
И бегом к проруби. До нее метров полста было. Я, хоть и был налегке – в свитерке и джинсах – ничуть не промерз, пока бежал. Такова сила спорта. Подбежали к проруби, кинули на снег валенки, полотенце да полушубок, экстренно вскрыли флакон водки, а фотограф аппарат подготовил. Я налил чуть ли не полный граненыч да и намахнул единым залпом. Для порядка отгрыз кусок замерзшего хрена – закусывать надо, обычай такой. Пока разжевывал его, скинул с себя штаны-свитерки, глянул на изготовку фотографа и по возможности аккуратно плюхнулся в полынью.
И, как говаривал Иов, «объяли меня воды до души моей». Холодно ничуть не было, даже побарахтался слегка в воде, прежде чем вылезти, тонкий ледок обламывая. Но, пока пытался для фото изобразить какое-то блаженство от пребывания в проруби, почувствовал во рту невероятный прилив адского пламени. Честно говоря, вся пасть горела и пылала. И настолько ядрено все это жгло, что мне было совершенно пофиг и на прорубь, и на всю окружающую среду. Глаза мои на лоб полезли от всей этой невообразимой пикантности.
Выскочил из проруби, начал плеваться и жрать снег. Крыл матом окрестности. Допил флакон водки прямо из горла. Оттого лишь и пришел в себя, влез в валенки и полушубок. Фотограф, поначалу ошалев и ничего не поняв (думал, что у меня от моржевания такой приход случился), начал громко ржать. И пока вез меня до хаты, рассказывал о невероятных кулинарных достоинствах своей тещи. О неизбывной тяги к экспериментам.
Уже дома, в спокойной обстановке, распивая водку, рассказал об этом хрене подробнее. Выдавая зятю гостинец, теща предупредила, что, помимо ядреного хрена, обильно использовала и невероятно могучий перец «огонек», который у нее на кухне в горшке разросся. Жутко жгучий и деть его некуда. Потому и хрен им зарядила. Смесь, как я осознал, случилась живительная. Кстати, потом банка с этим снадобьем долго стояла у меня на окне. Друзья непременно восхищались этим составом, который имел еще и мощные похмелительные эффекты. Пока весь не съели.
Так произошло мое единственное в жизни крещенское купание. Фото, кстати, получилось обыденное и банальное – торчит какой-то идиот в проруби и не более того. Примерно такое же, как нынче все свои подробности выкладывают, докладывая в соцсетях насчет окунания в проруби. Разве что какие-нибудь симпатичные девушки у проруби красуясь, безнадежную фотоскуку могут разбавить.
Поэтому лично я предпочитаю Крещенью летний праздник косарей, Петров день. Тепло, светло, хотя мухи и комары, бывает, и кусают. Зато никакого ледяного изуверства, коса звонко поет и травы аромат блаженный источают. Не зря летом, в июле, князь державу крестил.
Светел тот, кто Петров день празднует. Косари охраняют дорогу в Рай, господа!
Фрэнк и Сьюзи
Нравственность всегда поощряется и высоко востребована. Соответственно, востребована и безнравственность. Потому что иначе трудно востребованную и разрешенную нравственность вычленить. Тем более – злостную аморальность определить.
С утра сегодня прихохатываю после сообщения добродушнейшего Тимура Шаова насчет забавного казуса: " Неделю назад в Норильске одна дама после концерта гневно отчитала меня за то, что я посмел в песне употребить слова «оральный и анальный секс». Я тоже вскипел благородным гневом и возразил, что всё дело в контексте, и в моей песне этому уродливому явлению в эпоху повышенной заразности противопоставляется секс Моральный! Она сказала, что она заслуженный педагог и это безобразие».
Как доказано наукой, подобные безобразия возможны лишь потому, что не хватает четких маркеров, этаких ярко обозначенных границ. И потому все мы живем в пограничном состоянии: здесь мораль, а здесь – или мораль, или отнюдь не мораль. Короче, не хватает экспертов по пограничному состоянию.