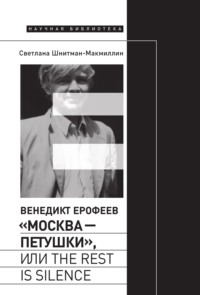Полная версия
Георгий Владимов: бремя рыцарства
Начался новый творческий период, очень далекий от детского утопизма Юнгляндии. С того дня и в течение последующих двух лет студент-отличник юридического факультета Ленинградского университета имени Жданова Георгий Волосевич оттачивал свое перо в уникальном литературном жанре: сочинении политических доносов на себя самого.
Это казалось единственным спасением в те страшные годы: «Бесконечные разговоры о предателях, космополитах, “дело врачей”, ужас весь этот, мрак. Это были мои студенческие годы, тем больше всего и запомнились». Именно в этот период, по его собственному признанию, у Владимова выработалось резко отрицательное отношение к системе в целом:
Появилось чувство охоты: система пытается догнать и схватить, а я убегал и чувствовал себя как одинокий загнанный зверь, против которого – лес! Это было время, которое меня, как человека, сформировало. Появилась сверхосторожность, лишний шаг я боялся сделать, и одновременно – развилась какая-то неслыханная авантюрная дерзость (ГВ).
Он сообразил, что для достоверности нужно, «как говорят артисты, “войти в образ”, чтобы в доносах была последовательность. С этой целью была выбрана мною маска этакого советского Че Гевары». «Таинственный шеф» Мякушко требовал от Ильи сведений о том, чем его друг «недоволен». В доносах указывалось, что студент Волосевич недоволен: «…слишком медленным развитием мировой революции. Сам Ленин говорил о том, что нужно прорваться “штыком в Европу”. И ведь был такой шанс во время войны, а мы его не использовали. Могли же не только весь Берлин и западные земли Германии победоносно защитить, но и Париж пощупать!» Мякушко эти доносы читал, по словам Ильи, с удивлением и «даже вроде симпатизируя». Тогда изобретательный Мякушко придумал новый ход: приближался юбилей Сталина[44], и Илья должен был подбить друга на написание стихов о вожде. Мнимый революционер разбушевался: «Такая грандиозная, величественная тема – разве можно тут халтурить?! Я недостаточно пока большой поэт, чтобы справиться с великой задачей. Она была бы под силу только Маяковскому!»
Капитан требовал от Ильи вопросов, которые могли бы спровоцировать нужные ответы, про колхозы, например. В ответ автор доносов бойко изложил детские впечатления от работы в киргизском колхозе Чалдовар, гордо добавив, что там заработал свои первые трудодни: «Времена, конечно, были голодными, но ведь шла война! Всем было трудно и голодно». Мякушко начинал терять терпение: красный диплом бледнел на глазах, и заветная звездочка улетала все дальше в небо. Тон капитана переменился, и он стал обвинять Илью: или «ваш друг с вами не откровенен», или сам Илья не все докладывает – «например, о колхозах он некоторым своим другим друзьям и подругам совсем другое говорит». Упоминание о подругах наводило на след. «Cherchez la femme, – объявил Жора другу, – есть какая-то девка, которая несется…» Открытие оказалось очень мучительным. Он был глубоко влюблен в девочку, с которой разговаривал о многом вполне откровенно. Думать, что она, возможно, «стучит», было непереносимо больно, и он стал держаться от нее подальше, прекратив романтические свидания. Встречая в университетских коридорах, пытался неумелыми вопросами навести на случайное признание, намекая, что ее видели на Литейном. Обиженная девочка сердилась: «Что тебе дался этот Литейный?» – и на вопросы о других адресах, куда таскали Илью на явочные квартиры, только отмахивалась. Через несколько месяцев после неутешительного окончания романа выяснилось, что доносчицей была совсем не она. Все произошло, «как в известном анекдоте об объявлении на двери спецотдела: “Замок сломался, стучите по телефону”». Однажды секретарша факультета «по дурости» зашла на лекцию и, перебив профессора, во всеуслышание объявила: «“Битяй просят зайти в спецотдел”. Все смолкли, а Битяй, толстая красивая украинка, покраснев, как бурак, сидела какое-то время не двигаясь. А потом встала и быстро, опустив голову, вышла из аудитории». И Владимов вспомнил, как однажды заболевший профессор принимал экзамены на дому. Студенты сидели у него в прихожей, и Георгий пошутил, что сдаваемый предмет «колхозное право» было бы справедливее назвать «колхозным бесправием», на что Битяй радостно подхихикнула и, как выяснилось, донесла. Таким образом, возлюбленная была реабилитирована, но, не догадываясь о терзаниях Жоры и причине его непостоянства, уже вышла замуж.
Материала «для дела об организации» не добавлялось, и Мякушко решился на серьезный расход. Илье отпускалась сумма в 160 рублей, чтобы он пригласил друга отметить в ресторане день рождения и опять-таки задать ему «вопросы». «А мои люди посидят там, понаблюдают за вами, как вы общаетесь», – объявил он. Ресторан был выбран «Метрополь» на Садовой: «Моя месячная повышенная стипендия была 390 рублей, но, чтобы посадить человека, они денег не жалели». Жора с Ильей, впервые в жизни оказавшиеся в ресторане, с радостью попировали «на казенные деньги» блинами с красной икрой и отменными шашлыками, но толку от этой баранины для капитана не вышло никакого. В конце концов Мякушко надоело возиться, и он объявил Илье: «Ваш друг не антисоветчик, но в мозгах у него какой-то молочный кисель». «Моя первая серьезная литературная удача! И самый сладкий молочный кисель за всю мою жизнь!» – с улыбой и не без самодовольства вспоминал Георгий Николаевич отзыв разочарованного капитана.
На предпоследнем курсе Владимов прошел большую преддипломную практику, принимая участие в работе следователя, секретаря суда и помощника прокурора по уголовным делам. Эта деятельность произвела на него очень сильное впечатление, прояснив многое в советской юридической системе. В последний университетский год он перешел на заочный, решив, что так будет меньше на виду. Мария Оскаровна была в лагере, и он непрерывно чувствовал себя «в осаде». Учась на заочном, работал кем придется – верхолазом, разнорабочим, грузчиком, чтобы хоть как-то прокормиться, заплатить за угол и помочь матери.
Окончив университет без распределения, так как заочников работой не обеспечивали, Георгий Волосевич ни дня не работал по своей юридической специальности. С его анкетой: отец пропал без вести, депортированный с оккупированной территории во время войны, мать в ГУЛАГе, – ни на какую работу, связанную с юриспруденцией, его бы не взяли. Но знание законов и правовое мышление оказались позднее важны в его правозащитной деятельности.
Глава шестая
Судьба матери
Как пошли нас судить дезертиры,Только пух, так сказать, полетел…Александр Галич. Вальс, посвященный уставу караульной службыНо в своей охоте на убежденную коммунистку Марию Оскаровну Зейфман капитан В.Е. Мякушко был удачлив. После скандала из-за посещения М.М. Зощенко сыном и его друзьями мать подвергли «суровой критике». Мария Оскаровна была обвинена в том, что сын ее воспитан в «чуждом духе». В 1952 году она была исключена из партии с набором обычных для той поры, а также «космополитических» грехов:
– Вдохновила сына на поход к Зощенко.
– После двенадцати лет развода искала информацию о попавшем в плен и пропавшем во время войны муже.
– Преклонение перед Западом, проявившееся в утверждении: «…Александрович поет так хорошо, потому что прошел итальянскую школу вокала».
– Вела разговоры об антисемитизме, якобы существующем в СССР, о несуществующем гонении на евреев, о сомнительности «дела врачей» – извращала линию партии в национальной политике (ГВ)[45].
На робкое возражение Марии Оскаровны, что сын посетил Зощенко «до постановления», партийная комиссия издевательски рассмеялась. Но это был лишь первый акт назревающей драмы.
Владимов с детства помнил атмосферу сталинских чисток в армии, возбуждение, скрытый страх и взаимные уверения взрослых в правильности и справедливости происходящего. Но сквозь все их желание веры в тихих разговорах «прорывалась нотка удивления от количества разоблачаемых шпионов». После войны был арестован друг и начальник матери латыш полковник Лепинь. Мария Оскаровна не верила в его вину, считая, что «произошла ошибка» и «должны разобраться». Но вскоре стало известно, что Лепинь расстрелян, что подействовало на всех в училище очень угнетающе.
В Петродворце соседями Марии Оскаровны по коттеджу была офицерская семья, родители и дочь. В 1952-м в училище, как и во всей стране, царил всеобщий страх перед репрессиями. Уже было арестовано несколько преподавателей, и «чекисты чистили, как могли». Сосед, честный и храбрый офицер, награжденный многими орденами за отвагу, не выдержал: зарубив жену топором, он повесился в своей комнате. Двенадцатилетняя дочь, придя из школы, обнаружила висящего окровавленного отца и убитую мать на полу. Георгий прибежал на ее крик: «В комнате пронзительно, жутко кричала, визжала девочка и было два мертвых тела. Весь пол был залит кровью». Это был страшный случай, потрясший всех в училище и отразивший невыносимую и бесчеловечную атмосферу в стране.
Приставленные к Марии Оскаровне стукачи доносили о ее откровенных высказываниях, которые Мякушко усердно подшивал «в дело». Человек искренний, страстный и очень открытый, Мария Оскаровна считала, что Сталин и партия не могли быть виноваты в безобразиях, связанных с антисемитской истерией «кампании против космополитизма» и «дела врачей», в вину которых она не верила совершенно. Антисемитизм раньше не был для нее темой размышлений или разговоров, но в те страшные годы она рано уловила в официальной политике антисемитский дух. Происходящее в стране она считала «преступным отклонением от партийных норм». Но ведь кто-то же отвечал за творящиеся в стране безобразия? И Мария Оскаровна решила, что весь корень зла – глава органов госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, и не скрывала своего отношения к «этому негодяю». Рано повзрослевший сын предупреждал мать и просил быть осторожной. Но целостная натура Марии Оскаровны не укладывалась в шизофренические рамки двойной жизни, и скрывать свои взгляды она не могла и «не считала нужным», так что на отличную дипломную работу капитану Мякушко материала хватило с лихвой.
15 декабря 1952 года около десяти часов вечера Жора возвращался домой с тренировки по боксу. Под правым глазом красовался большой синяк, приобретенный в честной борьбе. Подходя к дому, он с радостью увидел свет в окне их комнаты. Это значило, что мать ждала его с горячим ужином. Впереди была вкусная еда, сладкий чай и долгое чтение в постели. У дома стояла легковая машина.
На пороге комнаты его остановил крик: «Оружие имеется?» В вырванном из рук и распахнутом спортивном чемоданчике невинно трепыхнулись боксерские перчатки. Жору поразило, что люди «были в разных костюмах. Один в форме майора артиллерии[46], другой – лейтенанта летных войск, третий – капитан пехоты». В комнате шел обыск. «Решено вашу мать арестовать, – объявил “артиллерист”, – а вы продолжайте учиться, пользоваться тем, что вам советская власть предоставила. Надеемся, что вы вырастете и будете настоящим советским человеком». Обыск продолжался до четырех утра, перебирали и составляли опись вещей. Конфисковали сберегательную книжку Марии Оскаровны с накоплениями – 300 рублей старыми деньгами[47] и «обручальное кольцо из желтого металла, 56 пробы». Мать потерянно стояла в углу.
У нас и обыскивать-то было нечего: две койки с казенным бельем, полочка с посудой, примус на кухонном столике, за которым мы обедали и читали. Несколько томов Пушкина и парочка биб-лиотечных книг. Чемодан под кроватью, где, в зависимости от сезона, хранились летние или зимние вещи. Может быть, им полагалось не меньше какого-то времени тратить на обыск. Ходили нахмуренные, надутые, молчали с важным видом. Стены несколько раз простукивали, за обоями колупали, ныряли на пол, как клоуны в цирке, подолгу рассматривали щели в потрескавшихся половицах (ГВ).
Наконец, объявили, что сын и мать могут проститься. Он обнял вдруг задрожавшую мать и пошел за уводящим ее конвоем. Перед тем как вывести на улицу, ей зачем-то велели заложить руки за спину, и материнское пальто, застегнутое на одну пуговицу, топорщилось сзади. Когда подошли к стоявшей на улице «Победе», Мария Оскаровна хотела оглянуться на сына, но «артиллерист», грубо нагнув ее голову, втолкнул в машину. Жора стоял в тренировочном костюме один на зимнем морозе и смотрел на заднее окно отъезжавшей машины. Он видел исчезающую маленькую материнскую головку, испытывая чувство «такого отчаяния и беспомощности, которых я не чувствовал потом никогда в жизни». Чужие люди увозили в неизвестный и страшный мир единственного родного ему человека. Они увозили дом, ее близость, горячую еду, вечернее наслаждение чтением, ее стихи и пушкинские цитаты. Пронзительное чувство любви и жалости к матери осталось в нем на всю жизнь. Он не был легким сыном, как и она – легкой матерью. Но, часто раздражаясь и сердясь, он всегда заботился о ней, делясь последним, и в его письмах читается неостывающее желание скрасить и как можно лучше устроить ее жизнь.
Мякушко состряпал на Марию Оскаровну увесистое досье, которое и было развернуто в ходе процесса. Состоялось три заседания суда, посвященных делу «государственной преступницы»: первое слушание «дела» прошло 12 марта 1953 года – через неделю после смерти Сталина. На втором закрытом заседании суда 25 августа 1953 года она была признана виновной и осуждена по статье 58, пункт 10, часть 1: 10 лет лагерей за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Приговор был подтвержден военным судом 27 октября 1954 года.
По словам Владимова, против матери выдвигались три основных обвинения. Во-первых, ей, как и при исключении из партии, вменялись в вину разговоры о том, что «“культ личности” насаждался против воли Сталина и являлся отклонением от партийной линии и норм». После смерти Сталина и в быстро меняющейся политической атмосфере страны это обвинение потеряло всякий смысл. Во-вторых, Мария Оскаровна категорически не верила в «дело врачей», считая его антисемитской кампанией, т. е. «искажала национальную политику партии». К моменту ее осуждения «дело врачей» было прекращено и невиновность обвиненных признана официально. Но судья пояснил ей, что «врачей просто пожалели, а они, конечно, были виноваты», поэтому обвинение остается в силе. И, наконец, в-третьих, Мария Оскаровна была уверена, что Сталин и партия виновны в антисемитском шабаше быть не могли, но были введены в заблуждение Л.П. Берией, что означало «злостную клевету на руководящих членов партии и правительства». Тот факт, что Берия ко времени приговора был расстрелян как «враг народа, тайный агент царской охранки и английский шпион»[48], судей не поколебал.
Пока мать была в тюрьме, сын переживал те события, которыми жила вся страна. К концу 1953 года, по воспоминаниям Владимова, в печати кое-где стали появляться статьи, употреблявшие выражение «культ личности». Они еще не были антисталинскими, в них даже приводились цитаты из Сталина, хотя Георгий Николаевич утверждал: «Но уже становилось понятным для тех, кто умел читать между строк, что культ личности разрушается. Думают, что это впервые появилось на ХХ съезде, но я точно помню, так как был соответственно настроен, что все это возникло куда раньше». Нужно отметить необычную политическую прозорливость очень молодого человека, уловившего эти первые веяния[49].
«Все тщательно составленные капитаном Мякушко обвинения против нее сыпались, как карточный домик». Однако освобождать Марию Оскаровну «никто не торопился». Ее держали в одной из камер-одиночек прилегающего к Большому дому здания на Шпалерной[50]. В камере и потом в тюремной больнице Мария Оскаровна Зейфман писала стихи, которые глубоко восхищали сына, как свидетельство силы и несгибаемости ее духа. Он хранил их всю жизнь и помнил с молодости наизусть[51]. Георгий, сам живший в постоянном страхе ареста, постепенно заподозрил, что тюремные власти скрывают от матери последние события. Сын стал ломать голову, как передать ей записку с информацией. В Большом доме на Литейном два раза в месяц родственникам подследственных разрешалось передавать продукты и кое-что из одежды, весом не более 2 килограммов. Кто-то из стоящих в очереди посоветовал Георгию передавать побольше фруктов, потому что в тюрьмах был страшный авитаминоз. Посылку в специально сшитой торбочке с чернильным именем заключенного принимал пожилой сержант, сидевший в окошке. Он проверял содержимое «на крамолу», а если ее не оказывалось, доставлял посылку и возвращал родным торбочку.
Из ведомственной комнаты через два дня после ареста матери Георгия «поперли»: «Нашел вечером подсунутое под дверь письмо, что до одиннадцати утра следующего дня я должен освободить комнату. Я оставил записку, что выеду к вечеру, и пошел искать угол». Начались скитания по углам. Существование бомжа продолжалось семь лет, в течение которых он сменил почти двадцать мест жительства. Самым трудным было то, что намаявшиеся за день на тяжелых физических работах женщины, сдававшие углы, просили рано выключить свет, и читать или писать по вечерам было невозможно. Он снял угол в Петродворце, это было дешевле, чем в Ленинграде. Хозяйка и ее сестра, пережившие коллективизацию, очень сочувствовали ему и Марии Оскаровне, ругая советскую власть на чем свет стоит: «Ить и деревни им, кровопийцам, не хватило!» Хозяйка пекла пирожки с яблоком и картошкой для передач матери, но вкладывать записку в такой пирожок было рискованно: пирожки разламывались, особенно если были домашнего изготовления. Он попробовал вырезать сердцевину яблока и, вложив записку, заклеить его густым медом, но шов был заметен. И все-таки сообразительный сын нашел способ. Советский Союз завязал дружбу с Индией, на улицах и в магазинах продавались пластами индийские раздавленные финики. Он написал записку: «Сталин умер, культ личности осуждается, врачи реабилитированы, Берия в тюрьме – враг народа и шпион. Политика меняется». Скатав записку в тоненькую трубочку, так, чтобы она была размером с финиковую косточку, и перевязав белой ниточкой, чтобы не разлезлась, Жора воткнул ее в финик, а финик втиснул поглубже в пласт. Проверил – заметно не было. «Моя инженерная идея была, что она зубами почувствует что-то иное, не косточку, и посмотрит», – с удовольствием от собственной изобретательности пояснил Георгий Николаевич. Конечно, было опасение, что пласт разломают, но не каждый же плод – «липкая работа». И удалось. Проведя в большом волнении пару часов, Георгий увидел сержанта, несущего назад его пустую торбочку. Мать нашла записку именно так, как он рассчитывал. Она знала лишь, что умер Сталин. Ей в тюрьме сказали, что Берия возвышен и Хрущев наверху. Хрущев же в те времена, по словам Владимова, «был личностью довольно мрачной: палач Украины, антисемит. Но прочитав мою записку, она взбодрилась и решила на суде защищаться. Однако не садись с дьяволом играть – переиграет».
Сыну разрешили присутствовать на заседании военного трибунала 27 октября 1954 года. Марии Оскаровне назначили адвоката, «молодую девицу по фамилии Ярцева».
Илья специально приехал на три дня из Новосибирска, где работал по распределению. Он меня успокаивал, он был очень грамотный юрист. Мы вместе пошли на встречу с Ярцевой, и Илья подробно объяснял этой девице все закорючки и статьи законов. Он был красавец, так что она строила ему глазки и покорно записывала все себе в тетрадку. Но рассказать ей, что мать знала от меня о ситуации в стране, мы, конечно, не могли.
Когда суд начался, мать спросили, признает ли она себя винов-ной. На что она ответила: «Что же вы меня, граждане судьи, обвиняете, что я дурно отзывалась о Берии? Я была права – Берия оказался враг народа и шпион. Он арестован и казнен, а врачи реабилитированы, признаны невиновными». После ее речи последовала немая сцена, достойная бессмертного пера Гоголя… Ярцева, сволочь такая, стала делать большие глаза и усиленно трясти головой, давая понять, что сведения идут не от нее (ГВ).
Сбитый с толку суд удалился на совещание. Вернувшись минут через сорок, судья, маленький полковник в отставке, «жирненький особистик с лоснящимся розовеньким личиком, пороху не нюхавший», повел такую речь: «Да, подсудимая, вы правы. Мы не разобрались в черном нутре этого человека, но дело не в нем…» А дальше, по словам Георгия Николаевича, шла долгая словесная казуистика о том, что «подоплека ваших высказываний была антисоветской», ибо, когда Мария Оскаровна неуважительно высказывалась о Берии, она говорила «о том, кто был обличен высшим доверием партии и народа. Вы позволили себе ругать в его лице не его самого, но правительство, народ…» – он долго и прочувственно нес эту ахинею. Подсудимая, по словам полковника, «всегда отличалась умом сверхкритическим, и на нашу советскую действительность и деятельность родной партии смотрела критическим взором, даже кое-что сомнению подвергала, за что и была справедливо исключена из партии». Такими речами он легко довел измученную Марию Оскаровну до слез, так что она, махнув рукой, сказала: «Ну, может быть, я действительно виновата», – и это был конец процесса. Суд удалился для вынесения приговора и повторил прежний: «за “подоплеку” влепили ей 10 лет лагерей».
Это было не совсем то, о чем мечтал Мякушко. Капитану хотелось состряпать дело «об организации», «замести» и сына и припаять обоим 25 лет лагерей. Будь он успешнее, русская литература, возможно, никогда не узнала бы имени писателя Георгия Владимова. Но так как дело Марии Оскаровны было дипломной работой капитана в Военно-юридической академии, он был осторожнее обычного: «Совсем уж туфту он туда представить не мог, там все-таки были юристы-профессионалы», – так что полностью подделать все обстоятельства «дела» Мякушко не решился.
Сразу после первого суда свидание сына с матерью было уже в пересыльной тюрьме, возле Александро-Невской лавры. Особого контроля не было. Сидели за столиками: заключенные с одной стороны, родные с другой, на всех один надзиратель. Потом, в тюрьме, было хуже, приходилось кричать через две решетки, и надзиратель, которому все слышались разговоры «о деле», бросался от одной пары к другой и грозил прекратить свидание.
После пересыльной тюрьмы Марию Оскаровну отправили в лагерь в Антропшино[52], под Павловск. Лагерь был женский, и конвой с собаками водил заключенных на фабрику – клеить коробочки для медицинских лекарств. Условия, по тогдашним меркам, были сносными, так как работали в помещении, в тепле. Но нормы – 120 коробочек за смену – были для матери слишком высокими. Она не справлялась, ее наказывали лишением продуктов. Раз в месяц сын мог передавать посылки по 2 кило и крошечные суммы денег, которых не хватало самому. В письмах он старался отвлечь мать от страшной тюремной реальности. Зная горячую любовь Марии Оскаровны к русской литературе, он рассказывал о своем чтении, интересах и стремлениях. В его письмах чувствуется горячее желание сохранить духовную близость с единственным родным человеком и показать матери свой интеллектуальный и творческий рост. Сохранилось восемь писем, относящихся к периоду 1953–1954 годов. Первое из них было послано в Андропшинский лагерь[53]:
Здравствуй, милая мамочка!
В это воскресенье я приехал к тебе в Антропшино, но у вас был карантин, и пришлось вернуться восвояси. Почему ты меня не предупредила письмом? Впрочем, знаю твой лимит[54], и поэтому особенно не обижаюсь. Думаю, что смогу к тебе приехать во вторник 29-го числа. Напиши, пожалуйста, на Ленинград, когда кончится карантин и что тебе привезти. Итак, прошел год твоего заключения, а надежд пока маловато.
Пишет ли тебе Ида? Если не пишет, то сообщи мне, я с ней поговорю по телефону. Будь добра, не проси у нее денег, я тебе сам пришлю. Надеюсь, что тех, что тебе передал, тебе хватит до 3–4 января, а потом я получу. Сейчас надеюсь провести одну операцию с деньгами, и если что-нибудь выиграю, будут деньги для московской поездки к К.Е.[55]. Впрочем, напиши, я как-нибудь выкручусь, и пришлю еще сотню.
Долго я тебе не писал и прошу за это прощения – усиленно работаю над заказом из Москвы. Для этого пришлось подкрепиться – читаю Белинского и впервые оцениваю могущество этого великого критика. Оказывается, критиковать гораздо труднее, чем самому делать. Видишь несовершенное, а помочь ничем не можешь (кроме, конечно, советов на исправление и на будущее) – ибо должен быть беспристрастен.