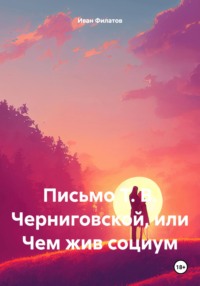Полная версия
Метафизика возникновения новизны
А теперь снова возвращаемся к вопросу обоснованности разделения научных и эстетических истин и об их различии. Но сейчас зададимся не вопросом качества представления эстетической истины в произведении искусства и не вопросом нашей способности (или неспособности) ее почувствовать и понять, а вопросом, что собой представляет эстетическая истина сама по себе. Что это?:
– зрелая дама, которая по каким-то соображениям не открывает своего прекрасного лица, спрятанного за таинственной маской?
– или это не развившийся подросток, у которого еще нет «своего» лица и которому пока что нечего предъявить миру?
Что касается первого варианта ответа на заданный вопрос, то против него, казалось бы, говорит то обстоятельство, что, как показывает повседневная практика, при созерцании произведений искусства у нас никогда не возникает инсайтного состояния нашей психики, свидетельствующего о том, что мы поняли идею, уже не допускающую какого-либо другого толкования (как это зачастую наблюдается при разработке научной или технической идеи). Да и попытки логического анализа произведения искусства отнюдь не приближают нас к «окончательной» разгадке смысла того или иного произведения искусства: наоборот, интерпретации множатся по мере нашего желания учесть все факторы, имеющие отношение к данному произведению.
Казалось бы, если произведение искусства несет в себе какую-либо созревшую идею, то почему бы ей не открыться нашему сознанию. Ан нет, этого не происходит и мы вынуждены самим отсутствием четкости сознательного представления идеи к тем или иным толкованиям ее смутных очертаний. Так в тесте Роршаха сама неопределенность пятен побуждает нас к различным интерпретациям, в то время как пятно близкое по своим очертаниям к знакомой нам фигуре (положим, птицы или человека) сразу же исключило бы альтернативные толкования.
Итак, отвергнув пока что первый вариант ответа на вопрос, что собой представляет эстетическая идея, нам остается только согласиться со вторым вариантом: то есть с тем предположением, что эстетические истины – это еще не «созревшие» научные идеи. Попытаемся подтвердить возникшее подозрение следующими достаточно простыми рассуждениями. В начале становления как самого человеческого сообщества, так и интеллектуальных способностей его членов, все идеи вещей и явлений их связывающих были, если можно так выразиться, эстетическими, поскольку заключали в себе тайну (идею, новизну) непонятную нашему сознанию. Но затем, по мере совершенствования нашего интеллекта и расширения наших познаний, мы постепенно стали постигать некоторые наиболее близкие нам и наиболее важные для нас объекты, явления и идеи их связывающие. И они-то, эти объекты, явления, идеи были нами отнесены к сфере научно-технических. Те же объекты, явления, идеи, которые не поддавались нашему познанию, были отнесены – уже древнегреческими мыслителями – к эстетическим.
Если наше предположение по поводу постепенного и достаточно длительного «созревания» эстетических идей до состояния научных не является ошибочным, то мы могли бы в качестве иллюстрации найти в истории интеллектуального развития человечества примеры хотя бы некоторых идей, которые сначала были эстетическими, а затем стали предметом научного рассмотрения. И таких примеров, как оказалось, можно набрать великое множество. Взять хотя бы идею Античного космоса, бывшую сначала идеей эстетической, а впоследствии раздробившейся на множество идей, объектов и явлений, рассматриваемых такими естественно-научными дисциплинами как математика, геометрия, физика, астрономия, космология, астрофизика и т. д. А эстетическая идея души, уже почти потерявшая к нашему времени свой эстетический характер, но трансформировавшаяся со времен Гераклита, Платона и Аристотеля частично в теорию познания (вспомним о трехчастном ее составе), частично в медицину, частично в психологию, а частично в психоанализ? Да к тому же само мифологическое мышление и мифопоэтическое творчество есть мышление и творчество эстетическое и переход к рациональному мышлению и творчеству сам по себе предполагает переход к научному способу познания.
Таким образом, если эстетические истины это еще не созревшие научные идеи, то тогда эстетика – это «приготовительная школа» науки человечества. Но «приготовительность» эстетики – как предшественницы науки – не «снизу», а «сверху». Наука рождается не только на почве ремесла, технического и технологического оснащения, она, в первую очередь, рождается из эстетических представлений о красоте, соразмерности, гармонии, соответствии назначению, возвышенности окружающего нас мира, нашедшего отражение в произведениях искусства. Разве можно было бы представить теории Коперника, Бруно, Галилея, Кеплера, Ньютона и др. без того, что они, создатели этих теорий, возросли, в том числе и на античной эстетике, по сути дела, возродившейся в 15-16 веках. И неспроста ведь бурный расцвет научного и технического развития пришелся именно на это и последующее ему время.
Не будь искусства (эстетики) – невозможна была бы сама наука. Как наука предоставляет поле деятельности для техники, так и эстетика (вкупе с искусством) подготовляет и почву, и семена, и атмосферу для рождения научных идей. Но эстетическая истина – это истина, еще не ставшая предметом научного рассмотрения, истина еще не созревшая для того, чтобы явиться нашему сознанию в рационально-иррациональном акте научного творения. Эта истина до поры до времени не способна к самостоятельной жизни в форме какой-либо научной истины, так как она еще не завершила инкубационную стадию «внутриутробного» развития и интеллектуального созревания в чреве человеческого сообщества.
Как инсайтная (интуитивная) научная или техническая идея проходит инкубационную стадию своего созревания в мозгу будущего открывателя (изобретателя), так и эстетическая идея проходит стадию созревания в коллективном интеллекте человечества.
Получается так, что эстетическая истина – это и «прекрасная дама» и «подросток»: с одной стороны, со стороны своей таинственности и завершенности, воплощенной в произведении искусства, это истина зрелая и сформировавшаяся; с другой же стороны, со стороны нашей неспособности облечь ее каким-либо понятийным содержанием, это истина, пока что дожидающаяся часа своего воплощения в действительность.
Поэтому у искусства, как у медали, две стороны: лицевая и оборотная. С одной стороны, созданное творцом произведение искусства несет в себе некий новый, хотя и таинственно-призрачный взгляд на окружающую нас реальность. А с другой стороны, произведение искусства – это произведение не только воспринимаемое созерцателем, но и перерабатываемое им до такой степени, чтобы на оборотной стороне проявились некоторые вполне оформленные и уже достаточно четкие очертания тех призрачных фигур лицевой стороны, которые, возможно, виделись художнику в акте его творения. Вот по этой оборотной стороне и формируется действительность.
Искусство призвано как к идеальной деятельности, так и к деятельности сугубо прагматической, поскольку художник создает некий отдаленный и достаточно виртуальный план бытийственной жизни в виде идеально-потенциальных направлений развития, в то время как созерцатель со временем угадывает некоторые из этих направлений и претворяет их в жизнь. Так что искусство служит не только для услаждения души созерцателя, оно для него некий ребус, который он может не только разгадать но и осуществить замысел, заложенный в нем творцом, то есть реализовать план бытия в нем зашифрованный.
Правда, неправильным было бы думать, что есть художник, заложивший в свое произведение некие идеи и есть созерцатель, обнаруживший эти идеи, сформулировавший их в виде мысли (понятия, теории, закономерности) и внедривший их в жизнь. Все и гораздо сложнее и гораздо проще. Нет отдельных произведений искусства как таковых, воздействующих на общество по подобному сценарию. Искусство воздействует во всей своей совокупности и воздействует оно, конечно, не на все общество, а только на ту ничтожную его часть, которая способна его воспринимать, перерабатывать своим интеллектом в новые идеи и претворять эти идеи в жизнь. (Правда, результаты этого претворения все же достаются всему обществу).
Жизнь не стоит на месте, она, изнутри себя – и не без помощи искусства – расширяет ареал своего нового влияния и распространения. И не столь важно, в чем будет заключаться это расширение: возникновение ли это нового мировоззрения или новой парадигмы в какой-либо сфере деятельности, открытие ли это нового взгляда на саму жизнь и законы, ею управляющие, или это создание новых технологий, ускоряющих сам процесс познания – главное, чтобы жизнь развивалась, чтобы возрастало само многообразие, то многообразие, которое является почвой для нового знания и нового расширения жизни.
И не искусство родилось в лоне культуры, что, как казалось, было бы вполне естественным предположить, потому что в нашем представлении искусство, если можно так выразиться, более высокая духовная инстанция по сравнению с культурой. Наоборот, культура появилась благодаря наличию искусства, поскольку все новое и продуктивное, – а в этом мы не можем отказать культуре – имеет в своей основе и в своем начале спонтанные природные, творческие процессы столь характерные для искусства. Искусство первично только потому, что оно спонтанно, а спонтанное всегда предшествует рациональному. И неспроста идея первична, так как она спонтанна, тогда как мысль следует за ней (спонтанностью), оформляя ее в понятийное русло. Искусство рождается и питается душевными стихийными порывами нашей психики, в то время как культура представляет собой духовное явление, которое можно представить в виде душевного явления, но уже трансформированного нами и оформленного нашим интеллектом в удобопонимаемую и усвояемую форму духовного знания, то есть культурного явления. Культура – это уже «застывшая» форма искусства, тогда как искусство – это магма, периодически извергаемая из жерла вулкана.
Но если мы все же зададимся вопросом, что собой представляет эстетическая истина «сама по себе», то вынуждены будем ответить, что эстетических истин как таковых нет в природе, поскольку никто их не «видел» и никто не способен их сформулировать на достаточно четком понятийном уровне. И они только потому не могут быть оформлены каким-либо осознаваемым нами содержанием – на манер научных истин, – что по своей природе они не имеют достаточно четких очертаний, так как представляют собой сложную систему виртуальных идей, каждая из которых может быть выявлена только в определенных условиях материально-духовного развития общества.
Так в эстетической идее Античного космоса были заложены не только идеи многих современных естественно-научных дисциплин, но и идеи морали (справедливость, законность, совесть, вина и т. д.) и самой эстетики (гармония, красота, соответствие назначению, возвышенное и т. д.). И в каких направлениях произойдет отпочковывание тех или иных идей, зависит от направленности развития общества как саморазвивающейся системы. И в этом отношении совершенно прав был Ницше, когда писал, что
«Наше назначение распоряжается нами, даже когда мы еще не знаем его; будущее управляет нашим сегодняшним днем»49,
если иметь ввиду, что будущее уже заложено в различного рода эстетических истинах.
С этой точки зрения эстетическое творчество – это, если можно так выразиться, воспоминание о будущем, воспоминание грядущих, еще не ясных нам самим, очертаний тех идей, которые, однако, уже способно уловить на бессознательном уровне наше интеллектуальное чувство удовольствия, но еще не способен сформировать и «сформулировать» наш интеллект, то есть сформировать до такого состояния, чтобы можно было представить их нашему сознанию в виде интуитивных или инсайтных идей.
Эстетическая истина не может быть открыта нашему сознанию потому, что последнее не настолько созрело, чтобы обнаружить в ней, в эстетической идее, какую-либо научную идею. Только накопление – в поколениях – соответствующих познаний в этой сфере и приобретение опыта оперирования этим познанием способно «вытянуть» из эстетической истины ту или другую сродственную этому познанию научную идею. Так магнит притянет к себе из множества шариков, изготовленных из разных материалов, только тот, что сделан из железа. Не отсюда ли справедливость буквального смысла выражения «Знание-сила»: познание, достигшее достаточно высокого уровня, уже способно оформиться в какую-либо идею. Само по себе оно не может этого сделать, ему нужна путеводная звезда, ему нужен идеальный прообраз, архетип, в соответствии с которым оно могло бы начать самостоятельную жизнь. И этим прообразом как раз и является эстетическая идея. А само по себе, без содействия искусства оно не в состоянии оформиться в новое знание только потому, что, как мы уже неоднократно упоминали, сознание не способно ни увидеть, ни создать саму новизну (каковой обладает идея), ее может увидеть бессознательное, обладающее опытом «общения» с новизной (и с искусством) и способностью целостного восприятия идей. И бессознательное, как это ни странно, не только ее «видит», но и «понимает», о чем свидетельствует спонтанное возникновение интеллектуального чувства удовольствия. Оно, бессознательное, подобно Линкею, прозревает сквозь толщу будущего.
Так что научные истины – это истины, некогда бывшие эстетическими истинами, но обретшие к моменту своего открытия достаточно четкие очертания и созревшие до способности быть понятыми и выраженными. В научных истинах научным является то, что они уже могут быть оформлены в однозначно понимаемую всеми мысль (теорию). Эстетическим же в них является неожиданность и спонтанность возникновения в виде новых идей, некогда обладавших статусом таинственности, загадочности.
И если мы посмотрим на эстетические и научные истины с точки зрения творческой деятельности ученого и художника, то сразу же увидим различие между последними. Ученый «вышелушивает» и проявляет идею, он ищет такую идею, которая уже «носится в воздухе». Эта идея уже созрела для своего рождения и проявления. И ведь недаром авторами хотя бы некоторых открытий, таких как, положим, неевклидова геометрия (Гаусс, Больяи, Лобачевский) или теории естественного отбора (Дарвин, Уоллес) были сразу несколько ученых.
Художник же, наоборот, не выявляет истину, он ее формирует и закладывает в произведение искусства. И делает он это – правда, на бессознательном уровне – с той целью, чтобы в грядущие времена созерцатель-ученый усмотрел в ней какую-либо из научных идей, потенциально в ней присутствующих. Так что задачи ученого и художника в корне противоположны, поскольку противоположны сути эстетических и научных истин. Если художник закладывает в произведение искусства так называемую эстетическую истину, то есть комплекс едва ощутимых им идей, идей которые только ему одному видятся и то в моменты крайне редких вдохновений, наитий, озарений, то ученый выявляет уже созревшую идею, идею, уже отпочковавшуюся (или готовую отделиться) от какой-либо эстетической истины.
А теперь попытаемся понять, что собой представляют так называемые мистические истины и имеют ли они какое-либо отношение к истинам эстетическим. Во-первых, следует отметить, что, если эстетические истины имеют своего творца и своего созерцателя, испытывающего чувство удовольствия от созерцания произведения искусства, то мистические истины, имея своего творца, по сути дела, не имеют созерцателя, поскольку даже на бессознательном уровне, последний вряд ли способен почувствовать, а тем более понять суть изложенного мистического откровения. Она непередаваема. Во-вторых, мистические откровения не могут быть оформлены в произведение искусства и даже будь способен мистик создать таковое, никто бы его не понял и ни у кого бы оно не вызвало чувства удовольствия. И, в-третьих, мистические откровения, так же как и эстетические истины, все же являются прозрениями нашего бессознательного, которые не способно понять наше сознание. Опыт познания мира нашим сознанием настолько беден, что он не может «поспеть» за эстетическими истинами, а тем более за истинами мистическими. (Слава Богу, что он поспевает – правда, непонятно во вред ли себе или на пользу – за научными истинами). Сознание не способно на логическом уровне понять и сформулировать то, что предъявило ему бессознательное в акте мистического откровения. Оно может «схватить», понять и оформить только то, что оно способно «переварить», как наш организм способен усвоить только то, что способен переварить наш желудок: отсутствие познаний и опыта, этого «желудочного сока» переработки соответствующей новой информации, оставит любую, даже легко усвояемую «пищу», нетронутой. Так и мистические истины остаются нераскрытыми ни художественными, ни научными средствами только потому, что наш интеллект еще не имеет в своем арсенале тех реактивов и тех лакмусовых бумажек – наподобие хотя бы чувства наслаждения, – которые были бы способны их обнаружить и представить в удобопонимаемой форме.
Таким образом, если научные истины со временем могут быть отделены от истин эстетических, то мистические истины, находящиеся «по ту сторону» эстетических, это те же эстетические истины, но еще не способные даже к тому, чтобы быть представленными в художественной форме. Они и не отделены от эстетических истин, поскольку художественность им все же присуща, и не принадлежат к ним, так как не вызывают интеллектуального чувства удовольствия.
Так что и эстетические и мистические истины работают на грядущее. Но они идут далеко впереди познавательной способности нашего разума, который еще не может их разглядеть. Вот если со временем он обзаведется определенными познаниями и опытом оперирования ими – этими микроскопами, телескопами, приборами ночного видения и т. д., – то можно тогда надеяться, что он сможет разглядеть нечто ему прежде невидимое и новое.
Теперь мы уже понимаем: если исключение из сферы эстетики научных и мистических истин – в силу познаваемости первых и полной непознаваемости вторых – имело хотя бы частичные оправдания, то исключение из сферы интересов эстетики самосозидающей Природы вряд ли было оправданным.
3.4. По поводу идейности произведения искусства
А сейчас вернемся к началу данной главы и зададимся вопросом: почему для грека времен Античности даже ремесло было искусством. Объяснить это можно только тем, что сама искусность изготовления какого-нибудь щита (шлема, кратера и т. д.) или какой-либо повозки (уздечки, сандалии и т. д.) была внове сознанию грека, как нам внове совсем недавно был импрессионизм, сюрреализм, дельтаплан, Интернет и т. д. И если мы попытаемся понять, почему грека времен расцвета классики так приводило в восхищение сходство, положим, изображенного на живописном полотне с тем, что он каждодневно видел в своей жизни, то вполне определенно можно сказать, что восхищал его не только искусно нарисованный занавес Паррасия, который хотелось раздвинуть и не только мастерски изображенная Зевксидом виноградная кисть, к которой слетались птицы, восхищал его сам феномен сходства с оригиналом, феномен «удвоения», копирования действительности. И вряд ли можно полагать, что древний грек искал в произведении искусства какую-либо идею или новизну. Такой идеей и такой новизной для него поначалу была сама искусность изготовления какого-либо необходимого в обиходе предмета или сама схожесть изображенного на картине объекта с оригиналом, или само соответствие изображенного описанному в литературном произведении или имеющему место быть в действительности. (Достаточно вспомнить «Картины Филостратов»). В связи с этим можно было бы предположить, что во временной ретроспективе формы представления новизны претерпевали определенные трансформации, связанные, скорее всего, с интеллектуальным становлением человеческого сообщества и с расширением его технологических возможностей.
Так, если для древнего человека, положим, времен позднего палеолита новизной или, скажем так, «идеей» была возможность и способность – пускай и неумелого – изображения на стене пещеры какого-либо животного или сцены охоты на него, то для грека времен архаики и Античности такой новизной стала уже способность умелого и даже искусного изготовления или изображения какого-либо предмета (тела, лица).
Это уже потом мы стали ценить произведения не только за мастерство – искусность, схожесть, соответствие назначению – исполнения, но и за его «идейность», то есть за то новое понимание действительности, которым оно нас одаряет. Сама способность искусного изготовления или изображения чего-либо и сама способность добиться сходства с подлинником постепенно были «преодолены» нашим сознанием и нашим опытом; они стали пройденным этапом эстетического творчества и восприятия, без которого невозможно было ступить на следующий этап, этап «идейности» произведения искусства, формирующей не только многообразие нашего понимания этого мира, но и созидание этого многообразия.
Прогресс нашего интеллектуального развития заключался в том, что нас стали интересовать менее «наглядные» и более абстрактные формы представления новизны, главной из которых стала объективная интеллектуальная новизна, то есть новизна только еще нарождающаяся и пока нам незнакомая. Она-то и стала главным предметом «изображения» и представления искусства.
Искусство, как и любая другая сфера человеческой деятельности, эволюционировало в своем развитии от своих примитивных форм представления и восприятия действительности до форм достаточно абстрактных. И было бы неправильным думать, что целью искусства на всем протяжении его развития было изображение идеи. Способность изображения чего-либо, искусность этого изображения – это этапы развития искусства, приведшие к идейной направленности последнего. Так учение о материи – коей занимается физика – прежде чем достигнуть современного уровня развития выступало и в мифологической, и в гилозоистической и в натурфилософской и даже в алхимической формах. Схожесть с действительностью в форме искусности изготовления или изображения была необходима только для того, чтобы через известное и знакомое нашему интеллекту «протащить» нечто ему неизвестное и новое, то есть представить идею, обладающую новизной и приумножающую многообразие нашего Мира.
Отсюда сразу же возникает вопрос: если классическое искусство с момента своего зарождения представляло предметом своего изображения знакомую нам действительность – и именно в этом изображении в завуалированном виде была заключена идея, – то можно ли сказать, что произведения современного, положим, «беспредметного» искусства так же нагружены какой-либо идеей? Или может быть изменилась сама направленность искусства, поскольку из него была изъята знакомая нам предметно-образная и символическая сходственность изображенного с действительностью, на основе которой (сходственности) все же возможно было – посредством рефлексии хотя бы – обнаружение той или иной идеи-новизны. Получается так, что современное искусство уже не способно апеллировать к чувству и интеллекту созерцателя. Оно утратило связь с ним.
Спрашивается тогда, так к кому же оно обращается? И нам ничего другого не остается как предположить, что обращается оно к самому же художнику. Являясь выражением души (психики, чувства, ощущения) художника, оно в то же время является предметом его созерцания. Отсюда сразу же возникает вопрос, так что же все-таки художник выражает, изображает, положим, на своем полотне и что он воспринимает, созерцая это полотно. Если художник классического искусства, выражая себя в произведении, позволял созерцателю посредством рефлексии интерпретировать изображенную в нем идею, то художник современного искусства, по сути дела, отказал в этом созерцателю и оставил эту привилегию самому себе. Но тогда возникает другой вопрос: в чем заключается и смысл, и цель подобного изменения направленности самого искусства? Если целью классического искусства, как мы ранее установили, было приумножение многообразия Мира посредством культивирования и генерирования новизны, то, что является целью современного искусства, искусства «безыдейного», а, следовательно, и не способствующего приумножению этого многообразия? Можем же мы предположить лишь два варианта:
– либо Миру уже нет необходимости в том, чтобы приумножать собственное многообразие,
– либо искусство, изменив свою направленность, переключилось с Мира на Личность, на познание души художника как наиболее совершенного представителя этого Мира, то есть оно переключилось с познания и приумножения Макрокосмоса на познание и развитие самой души человека, Микрокосмоса.
Но для чего, спрашивается, искусство как природное явление и как «надмировая» категория, переключилось на познание души самого человека? Может быть, настало время познания самой сущности бессознательного как фундамента психики? Это, во-первых. А во-вторых, может быть, само приумножение многообразия нашего Мира уже грозит ему если не гибелью, то непредсказуемыми последствиями, поскольку человеческий разум уже не способен справиться с тем, что он уже создал и еще собирается создать? Но здесь мы вступаем в шаткую область необоснованных догадок и предположений....