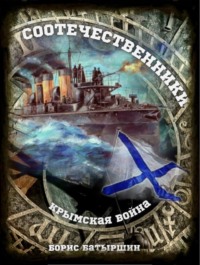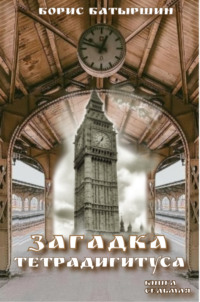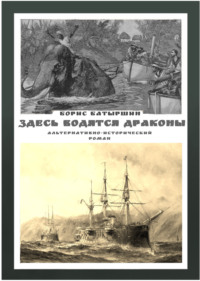Полная версия
Хранить вечно. Дело № 1
Я помотал головой и огляделся. Вокруг буйствует поздняя весна – иначе, откуда взяться такой сочной зелени, такой ярко-зелёной травке на газонах, без следа жухлой желтизны, пронзительному птичьему гомону в ветвях клёнов, обступивших дорожку? Возле медчасти к кирпичного бордюру приткнулся грузовичок, выкрашенный в тёмно-зелёный цвет – это его тарахтенье я слышал, когда проснулся. Антикварная полуторка ГАЗ-АА, с гнутыми крыльями, проволочной сеткой радиатора, запаской, висящей на дверке кабины, укрытой брезентовым тентом вместо нормальной крыши. Однако, подойдя поближе, я понял, что ошибся – и после недолгих раздумий переквалифицировал агрегат в АМО, что тут же нашло подтверждение в виде в виде блестящего жестяного значка на радиаторной решётке.
Ещё один раритет? И ещё какой: первый советский серийный грузовик, потомок итальянского «Фиат-15», продукция «Автомобильного московского общества», оно же будущий автозавод им. Лихачёва.
Выводы, таким образом, выходили не слишком утешительные.
Несомненно, одно: я заблудился во времени. Всё, что окружает меня, относится к двадцатым-тридцатым годам двадцатого века, тогда как некоторые прорывающиеся воспоминания относятся к куда более поздним временам. И это при том, что собственная личность по-прежнему оставалась для меня загадкой.
Что касается окружающей меня действительности, то память исправно выдавала порции сведений, стоило возникнуть подходящему поводу. Очень просто: увидел грузовичок, и сразу вспомнил и марку, и завод и даже кое-какие технические детали. Надпись и перевёрнутая звезда с пролетарскими символами над воротами тоже вызвали некоторые ассоциации – правда, в них только предстояло разобраться…
Ладно, это потом. А пока имеет смысл дать волю процессу возвращения памяти – пусть и такому, спонтанному и хаотическому. Благо, поводов вокруг сколько угодно, и каждый из них вызывает мгновенный импульс воспоминаний, обогащающий меня новой порцией ценной информации. А пока я неторопливо шагал по дорожке дому с колоннами. Как назвала его уважаемая Галина Петровна – главный корпус? Видимо, этой самой детской трудовой коммуны.
И ведь похоже на то: дорожка ухоженная, посыпана свежим золотистым песком; попадающиеся навстречу мальчишки и девчонки (надо полагать, торопятся с обеда, на который я, кажется, уже опоздал?) – все опрятно одеты, улыбчивые, энергичные. Мальчики в сатиновых, до колен, трусиках или тёмных шароварах, собранных у лодыжек; сверху – нечто вроде футболок, надо полагать, те самые голошейки. Многие босиком, остальные в лёгких тряпичных тапочках или сандалиях. Девочки, как водится, понаряднее – юбочки ниже колен, нередко плиссированные, и пёстрые блузки с кружавчиками или вышивкой по вороту. У многих «коммунаров» в руках книжки и тетради, а кое-кто даже читает на ходу – в точности, как в «Приключениях Шурика», заглядывая в книжку через плечо спутника.
Некоторые, впрочем, предпочитают спортивный стиль: например вон та, хорошенькая, лет пятнадцати, со вздернутым носиком и веселыми живыми глазами, щеголяет в шароварах и тенниске – у этой в руках не книжка, волейбольный мяч. Она задорно улыбнулась мне и, ничуть не стесняясь, крикнула подруге:
– Новенький! Смотрите, какой красивый, в парадке!
Я криво улыбнулся в ответ.
Возраст попадавшихся мне навстречу «коммунаров» был самый разный. Были и мелкие, лет одиннадцати-двенадцати, и совсем взрослые девчонки и парни с пробивающейся над верхней губой тёмной полоской. Мелькали и взрослые, правда, совсем немного – на некоторых я заметил спецовки из плотной, похожей на брезент, ткани с масляными пятнами. Ну да, коммуна-то рабочая…
Я обернулся – так и есть, за кронами деревьев пачкала небо угольной копотью тонкая железная труба. Завод? Фабрика? В памяти тут же всплыло название то ли фильма, то ли книги – «Флаги на башнях». Только вот автора, хоть убей, не вспомню. Но – тридцатые годы прошлого века, это точно.
В распахнутых дверях «главного корпуса» стоял пацан лет тринадцати, стриженный под машинку, лобастый, чрезвычайно серьёзный. Среди прочих коммунаров он выделялся строго официальным костюмом, в точности повторявшим тот, что был на мне, и трёхлинейкой с примкнутым штыком. Винтовка была несообразно длинной для его росточка, и пацан держал её обеими руками за дуло – на рукаве я заметил вышитый золотыми нитками вензель «Д.Т.К. им. Тов. Ягоды».
Между прочим, судя по названию, заведение находится под покровительством чекистов – если обрывки памяти мне не лгут, именно это учреждение и возглавлял Генрих Гершенович… прошу прощения, Генрих Григорьевич. Ну, хорошо, не возглавлял, но фактически, руководил, занимая пост первого зама при вечно больном Менжинском.
…Вот откуда я всё это знаю? А знаю ведь…
Ответ возник почти сразу, в ставшем уже привычным режиме флэшбэка. Жёлтая обложка, на ней строгое лицо человека в фуражке на фоне каких-то архивных бумаг и даже, кажется, отпечатков пальцев на дактилоскопической карточке. Название: «Генрих Ягода – смерть главного чекиста». Имени автора я не разобрал, зато прочёл идущую понизу надпись: «Мемуары под грифом «секретно». И, ниже – год издания, 1994.
То есть, я эту книгу читал? Выходит – да, читал, причём в том самом 1994-м году. Ну, или немного позже.
Значит, всё-таки попаданец? Вот ведь, прилипло неизвестно откуда дурацкое словечко…. А как по-другому объяснить всплывающие то и дело картинки из восьмидесятых, девяностых годов, даже начала следующего, двадцать первого века? Правда, они совсем уж фрагментарны, обрывочны, ну так лиха беда начало…
Нет, главное сейчас – это разобраться с самим собой, с воспоминаниями, касающимися собственного прошлого. А прочее рано или поздно приложится.
– Тебе чего? – неласково спросил часовой и, не дожидаясь ответа, повернулся и крикнул в дверь:
– Тоха?! Тошка, ты что там, заснул? Тут новенький пришёл, сгоняй за Стеценко! Он ведь сегодня дежком?
Из дверей ответили жизнерадостным «Ага, щас!», потом застучали по полу пятки – судя по звуку, не отягощённые обувью.
– Посиди тут пока, подожди. – распорядился часовой и кивнул на стоящую возле крыльца скамейку. – Когда ещё Стеценко придёт – что тебе, торчать на проходе, под ногами путаться?
Я спорить не стал и уселся, куда было сказано. Не прошло и пяти минут, как на крыльце возник пацан в белой, майке-голошейке и синих трусиках – судя по босым ногам, это и был давешний Тоха. Под мышкой он зажимал сигнальную трубу, золотящуюся на солнце начищенной латунью. Он кивнул часовому – «Стеценко занят, пусть немного подождёт…», – встал на краю верхней ступеньки, быстро облизал губы и, вскинув, свой инструмент, издал несколько отрывистых музыкальных трелей. И почти сразу из дверей хлынул поток обитателей коммуны – весело переговариваясь, они торопились в сторону дымящей за деревьями трубы.
Трубач, поймав мой взгляд, озорно подмигнул и скрылся в здании.
– Что это было, а? – спросил я у часового. – В смысле, кому сигналили?
– Кто, Тоха? Так это на работу, после обеда.
Поток коммунаров быстро редел, и через полминуты из дверей выбегали только одиночки.
Шагах в трёх от скамейки, возле ступеней возник из пустоты большой полосатый кот. Он уселся столбиком и начал умываться, совершенно не обращая внимания на пробегающих мимо пацанов и девчонок.
– Кис-кис-кис! – позвал я.
В ответ кот смерил меня презрительным взглядом жёлтых глаз, зевнул, широко разинув розовую пасть, и продолжил прерванное занятие. Я вздохнул и повозился, устраиваясь на скамейке.
Ждать, так ждать. Раз велено, да ещё и таким солидным официальным товарищем – значит, будем ждать…
Ожидание растянулось на четверть часа. Кот к тому времени закончил умываться и ушёл куда-то по своим кошачьим делам. Я же, не дождавшись очередного просветления в памяти, убивал время, наблюдая за снующими туда-сюда коммунарами. Видимо, сигнал, поданный голоногим Тохой, относился не ко всем, поскольку на скамейках появилось довольно много читающих ребят и девчонок, другие шли куда-то с мячами и полотенцами – то ли купаться, то ли на спортплощадку. Пронеслась мимо галдящая стайка пацанов лет десяти-двенадцати, тащивших в шесть рук большой коробчатый воздушный змей и на бегу обсуждавших, полетит он, или не полетит. По мне, так не должен – при таком способе переноски хрупкое изделие наверняка разнесут в клочки задолго до старта.
Жизнь, тем временем, кипела. По дорожкам зашкрябали мётлы, двое коммунаров приволокли носилки с песком и принялись посыпать дорожки, другие, с лейками и тяпками, занялись цветочными клумбами. А я сидел и прикидывал, покормят меня сегодня или нет – ползучий голод всё сильнее давал о себе знать. Сколько я не ел, с утра? Со вчерашнего вечера?
…Вспомнить бы…
Стеценко (загадочное слово «дежком» означало, как выяснилось, «дежурный командир») оказался парнем лет семнадцати, высокий, широкоплечий, он щеголял не стрижкой под машинку а аккуратной причёской, сделанной явно профессиональным парикмахером. Одет он был так же, как и часовой, в «парадку» – похоже, это была привилегия официальных лиц, да новичков, вроде меня.
Расспрашивать он не стал. Вместо этого критически оглядел мою особу, поправил поясок юнгштурмовки – «коммунар должен быть опрятным!» – и сделал знак идти за собой. Как оказалось, в столовую, которая была тут же, на первом этаже, в левом крыле здания. Там уже вовсю шла уборка – дежурные в белых халатах подметали пол, вытирали столы и расставляли стулья. Мне принесли тарелку с борщом, ещё одну с кашей, от души сдобренной маслом, и чай с сахаром. Хлеб – толстые серые ломти – прилагался в потребном количестве, так что на следующие минут десять я выпал из реальности, и даже не отвечал на вопросы Стеценко. Тем более, что и отвечать-то было особо нечего: его интересовало откуда я и почему направлен в коммуну – а что я мог ему ответить? Здешние мои воспоминания (флэшбэки, ясное дело, не в счёт) начинались с момента пробуждения в медчасти, а это вряд ли могло удовлетворить собеседника.
После обеда (мне показали, куда полагается относить грязную посуду) Стеценко направился на второй этаж, куда из холла вела широкая парадная лестница. Я пошёл за ним, ожидая, что вот сейчас меня отконвоируют в кабинет какого-нибудь высокого начальства, на предмет знакомства, расспросов и определения дальнейшей судьбы. Но нет, оказывается, всё решено заранее: Стеценко сообщил, что я зачислен в пятый отряд, и даже провёл по длинному коридору, чтобы показать дверь спальни с латунной табличкой с цифрой «пять». Правда, объяснил он, сейчас отряд в полном составе на работе; торчать же в спальнях днём не полагается, и встреча с будущими товарищами откладывается, таким образом, до вечера. Что ж, тем лучше: при нынешнем душевном раздрае я, пожалуй, не готов к подобной встрече. Надо бы собрать мысли в кучку, прийти в себя, сосредоточиться – и уж тогда…
Мы снова спустились на первый этаж, где в противоположном от столовой крыле «главного корпуса» помещался актовый зал. «Посиди пока тут, посмотри, – сказал провожатый. – Командир твой Семён Олейник. Я сообщу ему, чтобы после работы забрал тебя в отряд. С ребятами познакомишься, о порядках наших узнаешь. На ужин пойдёшь уже вместе со всеми».
Я, понятное дело, не возражал.
В зале шла репетиция театрального кружка. Ставили что-то незнакомое, но явно революционное, и это заняло меня примерно на полчаса, после чего стало скучно. Реплики самодеятельных артистов и непрерывные поучения режиссёра, сорокалетнего, тощего, как щепка, дядьки, видимо здешнего массовика-затейника, не давали сосредоточиться на своих мыслях. Пришлось тихонько пробираться к выходу и выскальзывать в коридор.
Народу здесь не было; удаляться от актового зала я не рискнул, тем более, что и в коридоре нашлось нечто, куда интереснее безвестной революционной пьесы. Длинный, в половину стены, фанерный стенд с прессой! «Харьковский пролетарий», «Молодой ленинец» – официальные издания, отпечатанные мелким типографским шрифтом на плохой серожёлтой бумаге. И дата, одна и та же на обеих газетах….
Я даже не особенно удивился, получив подтверждение самых пессимистических своих прогнозов. Всё, точки над «i» расставлены. Коммуна имени товарища Ягоды, куда зашвырнули меня неведомые силы, находится на Украине, видимо, где-то возле Харькова, нынешней столицы республики. На дворе – двадцать третье мая тысяча девятьсот двадцать девятого года.
…Ну что, доволен… попаданец?..
Чтобы как-то успокоить встрёпанные эмоции, я принялся читать передовицу «Харьковского пролетария». В ней гневно клеймились низкие темпы идущей согласно «совместному постановлению ВУЦИК и СНК УССР полной украинизации советского аппарата» – с грозными обещаниями неумолимо вычищать госслужащих, до сих пор не удосужившихся овладеть украинским языком. А так же, страстными призывами завершить к тридцать первому году процесс перевода на этот язык всех высших учебных заведений республики. Что-то мне это напомнило… что-то важное, но вот что именно? Ладно, потом, а пока – я стал изучать стенгазету «Коммунар» на трёх склеенных больших листах, со статьями, частично написанными от руки, частично отпечатанными на машинке, а так же рисунками разной степени неумелости.
Интуиция подсказывала, что вскорости мне самому придётся заняться подобным общественно полезным творчеством.
И, скорее всего, не только им.
IIВ этот вечер знакомства толком не вышло: перед ужином пришлось в сопровождении Олейника идти к завхозу, получать положенное «вещевое довольствие»: постельное бельё, повседневную одежду, полотенце и прочее «мыльце и рыльце». Кстати, моих собственных «вещичек» не оказалось – видимо, я прибыл в коммуну налегке.
Ещё одна ниточка, за которую не получилось потянуть. А я, признаться, рассчитывал…
После ужина (макароны по-флотски и чай) пятый отряд организованно, в полном составе отправился на спортплощадку. Предстоял давно, как оказалось, ожидаемый матч по волейболу между сборной коммуны и командой шефствующего над ней местного отделения ГПУ (не подвела логика, не подвела!) – и следующие полтора часа мы провели, сидя на деревянных скамейках, установленных по бокам площадки. Точнее, не сидя, а вскакивая, вопя, потрясая в воздухе тюбетейками, обнимаясь при каждом мяче, забитом «нашими» и хватаясь за голову, когда спортивное счастье улыбалось гостям. К тому времени я уже выучил имена и фамилии нескольких будущих моих товарищей по пятому отряду. Лёвка Семенченко, высокий, узколицый парубок из-под Житомира, собирающийся стать лётчиком; Олег Копытин, его ровесник и полная противоположность – эдакий боровичок с белым ёжиком волос на голове, чей предел мечтаний составляло получение разряда по слесарному делу; Тарас Перебийнос – уроженец Полтавы, изъясняющийся с неистребимым малороссийским акцентом и всё время рассказывающий о живущем в Туркестане старшем брате, который что ни месяц, шлёт письма с приглашениями к себе.
Ребята в отряде подобрались примерно одного возраста, от четырнадцати до восемнадцати лет, – все они посещали разные классы школы, а после учёбы работали на небольшом заводе, составлявшем гордость коммуны имени товарища Ягоды.
Несмотря на массу полученных сведений, моё представление коллективу оказалось скомканным. Возможно, впрочем, «комотряда» – так называли Олейника и других коммунаров, занимающих аналогичные должности – нарочно не стал устраивать знакомства, видимо, догадываясь, что новичку особенно нечего о себе рассказать? А может, получил на этот счёт от Стеценко или другого местного начальства? Так или иначе, меня это устраивало.
Эпохальный матч (чекисты победили с разгромным счётом «семь-пятнадцать») досуха выжил не только игроков, но и зрителей – а потому, проделав положенные на ночь гигиенические процедуры, для чего в конце коридора имелась умывальня, она же душевая с длинным рукомойником и дюжиной выложенных кафелем кабинок с жестяными дырчатыми конусами под потолком, мы стали готовится ко сну. Не все, впрочем – кто-то листал на ночь книжку, кто-то пришивал оторванную пуговицу, а Олейник с Семенченко устроились в углу за шахматами. Я же, отразив вялые попытки Перебийноса втянуть меня в доверительный разговор, сказался уставшим (нисколько при этом не покривив душой), разобрал кровать и лёг.
Сон, однако, не шёл – даже когда за окном пропела Тохина труба и свет в комнате погас. Обрывки воспоминаний кружились падающими осенними листьями в утомлённом свистопляской этого дня мозгу. Они возникали ниоткуда, мелькали, ударялись одно о другое, разлетались в разные стороны цветными камушками, кусочками мозаики, пёстрыми паззлами, но увы, никак не желали складываться в цельную картину. Я закинул руки за голову и стал смотреть в окно, куда заглядывала большая масляно-жёлтая луна.
Может, грядущая ночь поможет навести в голове порядок? Недаром говорят, что утро вечера мудренее: проснусь вот по сигналу трубы, ополосну лицо холодной водой, погружу за выданную завхозом зубную щётку в картонную плоскую коробку с зубным порошком – и внезапно осознаю, что память вернулась ко мне в полном объёме? А что? Очень даже просто, как выразился по какому-то поводу сопящий на соседней кровати Олег Копытин.
… И, кстати – что такое «паззлы»?..
…Три слоя, три уровня памяти – и я скользил по ним во сне, и фрагменты воспоминаний послушно вплетались в общую ткань, затягивая прорехи, восстанавливая цельный рисунок, раздёрганный до сих пор на отдельные куски. Но порой прореха оказывалась слишком большой, и тогда приходилось останавливаться и двигаться в обход, осторожно нащупывая путь, чтобы ненароком не сорваться в чёрную пустоту беспамятства и безвременья, откуда – я почему-то знал это наверняка – придётся возвращаться к отправной точке и всё начинать заново.
Итак, первый слой – это общие воспоминания. Прочитанные за всю жизнь книги, газетные и журнальные статьи, просмотренные фильмы и телепередачи, выученные школьные уроки и прослушанные институтские лекции. То, чего успел нахвататься вольно или невольно, объём накопленных знаний, представлений об окружающем мире в пространственном или временном измерении, неважно ложных или истинных – причём не персонифицированных, оторванных от личности «восприимца».
Как ни странно, это слой легче всего поддавался реставрации. Годы, десятилетия легко укладывались в общую мозаику, события вытекали одно из другого, обильно сдабриваясь пластами художественной литературы, научными и не очень знаниями, которых я успел нахвататься за свою жизнь. И то, что я увидел вчера – от названия коммуны до грузовичка АМО и передовицы в газете «Харьковский пролетарий» – отличнейше в эту картину укладывалось. Скажу больше: процесс реставрации этого слоя памяти стартовал чуть ли не с того момента, когда я пришёл в себя в медчасти – в виде тех самых флэшбэков.
Второй слой – это уже я сам. Моя личная, персональная память, весь объём воспоминаний о прожитой жизни, обо всех этих десятилетиях, миновавших, прежде чем я совершил этот невероятный скачок на сто без малого лет назад. Бытовые сцены, моменты интимные и семейные, увлечения, поездки – всё то, что составляет содержание повседневной жизни любого человека. Тянулись эти воспоминания из сопливого детства, примерно до 2018-го года, а дальше лакуны памяти («здесь помню, здесь не помню» – как в «Джентльменах удачи») сливались в одно сплошное белое пятно. Причём то, что относилось к этим временам в первом, «общем» слое воспоминаний пребывало в полном порядке – возможно, из-за того, что события эти с моей личной точки зрения произошли буквально вчера, и впечатления о них не успели ещё побледнеть, выцвести от времени.
Но и тут имелась некоторая обнадёживающая перспектива: оказалось, если ухватиться за кончик одной из нитей, из которых сплетался первый, «общий», слой, то иногда можно, потянув за неё, вытащить что-то, относящееся и ко второму слою. Как я проделывал это во сне – не спрашивайте. Скорее всего, просто понял, что подобный трюк возможен, но исполнение его придётся отложить на потом, когда я буду уже бодрствовать.
А ещё я отчего-то совершенно точно знал, что именно там, в этих прорехах памяти и прячется загадка моего попаданства. А значит – есть шанс рано или поздно до неё докопаться.
Что ж, уже неплохо. Осталось только освоить методику реставрации воспоминаний, и можно приступать…
Оставался третий слой, воспоминания того, чьё тело я бесцеремонно занял. И вот с ним дело обстояло хуже всего, поскольку ни малейшего следа чужого сознания не нашлось в самом дальнем уголке мозга, и оставалось надеяться, что личность бедняги не растворилась в мировом эфире, а заняла освободившееся место – примерно так, как это описано в романе Шекли «Обмен разумов». Впрочем, там, если не изменяет мне то, что осталось от моей памяти, «вселенец» наследовал вместе с телом ещё и некий базовый слой сознания – простейшие навыки, общую память и прочее, необходимое, чтобы освоиться на «новом месте». В моём же случае ничего подобного не было – всё, включая бытовые привычки и профессиональные навыки принадлежало пятидесятивосьмилетнему мужику, неизвестно по чьей воле оказавшемся в теле пятнадцатилетнего пацана. Хотя, если подумать, то ещё утешение: пацан-то оказался бы в том, потрёпанном жизнью, изрядно изношенном теле – и тоже без минимума необходимых знаний и навыков. Ещё неизвестно, что бы я предпочёл на его месте…
А всё же, этот третий, «юношеский» слой памяти оказался не вполне пуст. Нет, я по-прежнему понятия не имел, где родился Лёха, какую фамилию он носил, кто его родители. Но воспоминания, как выяснилось, начинались несколько раньше пробуждения в медчасти. Вот я в комнате без окон – сижу на грубом деревянном кресле, опутанный проводами, на голове металлический то ли шлем, то ли шапочка, от которой кабельный жгут идёт за спину. Руки и ноги притянуты к креслу широкими ремнями, что наводит на неприятные ассоциации с электрическим стулом… Вот меня под руки извлекают из кресла и куда-то ведут – взгляд выхватывает висящий на стене мутный аэрофотоснимок с надписью химическим карандашом: «Сейдозеро» и дата, март 1923 года. Вот я в автомобиле, на заднем, широком, как диван сиденье. Шторки на окнах задёрнуты неплотно, в образовавшуюся щель мне видны улицы большого оживлённого города – ломовые подводы, трамвай, отчаянно звенящий и рассыпающий искры, грузовички, вроде давешнего АМО, легковые автомобили, открытые или с поднятым тентом…
Следующая картинка: я в железнодорожном вагоне, в купе – невиданная роскошь для пятнадцатилетнего мальчугана. Сопровождающий, угрюмый, неразговорчивый тип, принимает от конвоира в форменном кителе и с кобурой на поясе картонную папку с надписью «личное дело» и засовывает её в портфель. Имени-фамилии на папке я не разобрал, зато запомнил весёленькие жёлтые завязки из шнурков от ботинок.
И последний «кадр»: купе опрокидывается, словно аппарат, которым снимали этот фильм швырнули на пол; на меня накатывает приступ дурноты, я падаю спиной на вагонный диванчик, и…
И всё. Дальше – только кровать с никелированными шишечками, солнце за окном и медсестра Галина Петровна. И вопрос, на который, как ни бейся, ответа не найти: «чьи это воспоминания, мои собственные, или того паренька, чьё место я занимаю?»
Из этого полусна-полувидения и полнейшего бреда меня выбросил чистый, звонкий звук сигнальной трубы. «“Подъём, подъём! Кто спит, того убьём!» – выводил Тоха или его напарник, чья очередь пришла сегодня поднимать трудовую коммуну имени товарища Ягоды ото сна – и словно услыхав этот жизнерадостный призыв, кто-то бесцеремонно сдёрнул с меня одеяло.
Я открыл глаза. Олейник, кто бы сомневался…
– Эй, Давыдов, чего разлёгся? Вставай, сейчас уборку начинаем. А ты бегом в умывльню, и смотри не халтурь – сегодня Люба дэчеэска!
Давыдов – это, значит, моя фамилия? И что ещё за таинственный «дэчеэска» с девичьим именем? Я сел на кровати и невольно зажмурился – в окно, прямо в лицо, били лучи майского солнца.
За время короткого визита в «умывальню» – там с утра было довольно людно, коммунары торопились привести себя в порядок перед «поверкой» – я узнал смысл термина «дэчеэска». Всё просто: аббревиатура, скрывающая вполне тривиальную должность «дежурный член санитарной комиссии». Мог бы и догадаться, а то и просто вспомнить – мелькало ведь что-то такое в проглоченных в студенческой молодости сочинениях Макаренко…
Вообще, знакомство с «Педагогической поэмой» и другой нетленкой, сотворённой советским педагогом-новатором изрядно облегчало мне жизнь – особенно теперь, когда я сумел примирить собственные воспоминания с окружающей меня реальностью. Не совсем, разумеется: зияющие дыры остались, и они, похоже, скрывают самое для меня важное – как и зачем я оказался «здесь и сейчас»? По какой такой причине сознание пожилого мужчины из первой четверти двадцать первого века перенеслось в тело трудного подростка первой трети века двадцатого? Почему сразу трудного? Очень просто: коммуна явно организована по образцу макаренковской, хотя начальник её и носит фамилию Погожаев – а туда, помнится, направляли сплошь беспризорников и малолетних правонарушителей. Значит, и мой «рецепиент» из таких, но я, как ни старался, не сумел вспомнить ничего, относящегося к его биографии.