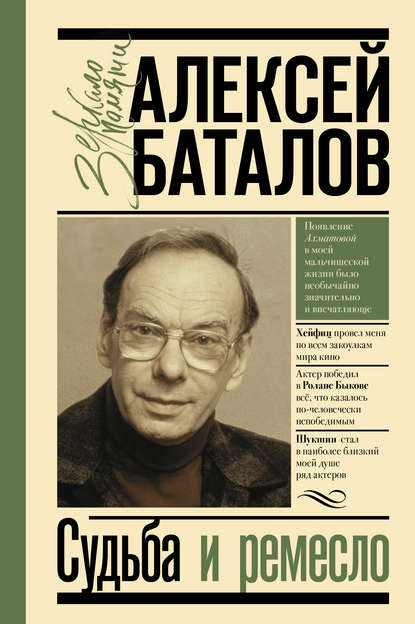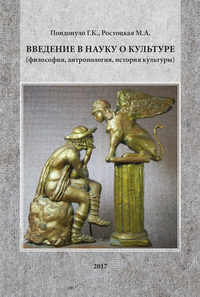Полная версия
Станислав Ростоцкий. Счастье – это когда тебя понимают
Эйзенштейн был связан с очень многими людьми в мире. С каким волнением и радостью выполнял я иногда его поручения по отправке корреспонденции, когда на конвертах стояли такие имена, как Чаплин, Форд, Синклер, Рене Клер, Ренуар – великие имена мировой культуры.
В 1948 году ему исполнилось 50 лет.
В феврале 1948 года я должен был ехать в Ленинград. Как всегда, позвонил Эйзенштейну: у него обычно бывали поручения ко мне, так как в Ленинграде жили его большие друзья, например Григорий Михайлович Козинцев, мой педагог по институту, с которым Эйзенштейн всегда вел и серьезную, и шуточную переписку и пользовался оказией для передачи писем. В Ленинграде жил любимейший оператор Эйзенштейна, который сотрудничал вместе с Тиссэ в «Иване Грозном», – Андрей Николаевич Москвин. В Ленинграде жил Николай Константинович Черкасов. Я приехал за письмами.
Вечером, перед самым отъездом, у меня дома раздался телефонный звонок.
– Слушай, – сказал Эйзенштейн. – Тут меня спросили, кто будет выступать от студентов на моем юбилее, я сказал, что ты, не возражаешь?
Я пошутил, что бесплатно не согласен.
– Ну ладно, ладно, будет с меня подарок, – сказал Сергей Михайлович, потом помолчал и добавил: – Только выступать придется не на юбилее, а на похоронах.
Я не удивился этим словам. Эйзенштейн в последние месяцы часто говорил о смерти – очевидно, давало знать о себе перенесшее инфаркт сердце[7]. Но говорил он всегда так же шутя, как и обо всем другом. И мы уже как-то не обращали внимания на его слова, только старались, чтобы он не демонстрировал нам свою удаль, когда подымался по лестнице во ВГИКе на четвертый этаж, и задерживали его своими вопросами на всех площадках лестниц, чтобы он отдыхал.
Конечно, я сказал тогда по телефону, что не надо так шутить и что не надо думать о столь неприятных вещах накануне юбилея и т. д. Мы простились, и я уехал в Ленинград.
Последнее, что я сказал, включившись в шутливый эйзенштейновский тон, было:
– Вы уж, пожалуйста, дождитесь меня, Сергей Михайлович.
– Ладно, постараюсь… – ответил Эйзенштейн.
10 февраля утром я вернулся в Москву. В кармане были письма от Черкасова и Козинцева. Приветы от друзей. Днем пошел в «Ленинку», нужно было кое-что найти в библиотеке для Козинцева: он ставил «Белинского».
В библиотеке хотел позвонить Эйзенштейну, но в кармане не оказалось монетки. Подумал – ничего, позвоню завтра утром. Все равно пойду к нему только утром. Эх, если бы я знал, чем обернется эта отсутствующая монетка.
В 6 утра у меня дома раздался звонок. Говорила тетя Паша:
– Стасик, приезжайте, умер Сергей Михайлович.
Не помню, как доехал, как вошел. На тахте под красным сарапе лежал Эйзенштейн. Огромный лоб, ореол волос, покойное, уходящее в вечность лицо. Казалось, что он даже улыбается. Будто все еще шутит.
Приходили и уходили люди.
Приехал скульптор Меркуров снимать маску.
На столе в кабинете, как и в тот день, когда я пришел в первый раз, лежала рукопись. Это была статья о цветовом кино. На последней странице одно из слов вдруг обрывалось, к нему была начерчена аккуратная стрелочка и было помечено – «здесь у меня был сердечный спазм», потом снова продолжалась статья. Потом снова обрывалась буква и вниз шла закорючка, и все… Он писал статью до тех пор, пока не остановилось сердце.
Я стоял и смотрел на огромный лоб: сколько статей, мыслей, фильмов, планов, знаний помещалось там – и все это исчезло, исчезло навсегда!
Нет, не исчезло. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда начинаю говорить об этом с любым человеком у нас в стране. Каждый раз, когда еду куда-нибудь за границу. Так было в Лондоне на выставке его рисунков, так было в Мексике в гостях у Фернандеса, так было в далекой Новой Зеландии и в не менее далекой Японии.
Всем, что мне удалось, я обязан Эйзенштейну, и моя благодарность ему за его доброту, за его великодушие безгранична. Да разве я один ему обязан!
Я действительно выступал на похоронах. Но я говорил с Эйзенштейном, как с живым. Потому что такие люди не умирают. Они остаются рядом с нами, они остаются в памяти и сердце человечества.
* * *Я окончил школу в 1940 году, а это был год ворошиловского призыва. Молодым людям вообще не разрешалось поступать в вузы. По стечению обстоятельств в армию меня не взяли. В тот год приема в ГИК не было. Я решил посоветоваться с Сергеем Михайловичем, куда мне пойти учиться. Он сказал: «Иди в ИФЛИ – институт философии, литературы и искусства – на искусствоведческий факультет». И год я провел, ходя по музеям и читая.
А когда началась война, я пошел в армию. Потом меня и еще нескольких человек пытались освободить от фронта, считая, что нас надо сохранить как способных людей. Нас приняли в Школу-студию МХАТ, и мастера МХАТа – такие как М.М. Тарханов, И.М. Москвин, В.И. Качалов и другие выдающиеся деятели – обратились в политуправление РККА. Но нас не освободили, и слава богу. Резолюция на том письме гласила: «К черту всех артистов – пусть воюют». Интересно, как бы иначе мы смотрели в глаза наших сверстников и что бы мы делали в искусстве?..
Война
22 июня я шел по площади Свердлова. Я покупал сахар, фотобумагу. Мы готовились ехать на моторной лодке из Москвы в Тарусу. Подходя к Мосторгу, я услышал знакомый голос. Кто это? Да это же Молотов. Я даже крикнул это вслух и побежал к толпе, стоящей у громкоговорителя. Помню, как к этой толпе подходили люди. «Что? Что?» Им говорили, и они как-то все по-разному, но менялись. Контролерша в метро плакала и надрывала билеты. Дома пахло валерьянкой. Вечером, когда лег, во дворе что-то ухнуло и упало. Подумал: «Вот, может быть, скоро так будут падать бомбы». Война перевернула все. Все планы, все мечты, все думы.
Уехал с родителями в Казань. Там недолго работал фоторепортером в «Пионерской правде». Потом меня призвали в тыловые части, но на фронт не пускали. А я думал: как же я другим-то расскажу о войне, если сам не буду участвовать? И убежал на фронт.
Когда уходил в армию[8], в вещевой мешок положил «Утраченные иллюзии» Бальзака и «Потерянный горизонт». Возил их всегда с собой, но в конце концов «Потерянный горизонт» украли, а «Утраченные иллюзии» выкурили.
И опять мне повезло. По существующей статистике, из юношей 1922 года рождения осталось в живых 3 %. Я один из числа людей, составляющих эти 3 %. На фронте я пробыл до февраля 1944 года. Вот несколько строк из первой работы, называвшейся «Автобиография» и написанной мной в сентябре того же года, когда я сразу после госпиталя поступил в мастерскую Козинцева на режиссерский факультет ВГИКа. Я сознательно не изменяю ни одного слова, так как все, о чем написал, тогда было еще не воспоминанием, а только что прожитой жизнью.
«Еще раз вспыхнули ракеты. Вырвали из темноты Дубно. Я увидел стены крепости, церковь, возвышавшуюся над городом, танки, несколько бойцов и вдруг рядом с собой, несмотря на окружающий грохот, ясно услышал крик: “Танк!” И сразу вслед за этим из канонады и рева ночного танкового боя ясно, во всяком случае для меня, выделился нарастающий звук мотора. Я хотел вскочить, но в это время что-то крепко схватило меня за пятку и потащило назад. Что-то огромное, неумолимое и жестокое навалилось на меня, сжало грудную клетку, обдало жаром и запахом бензина и жженого металла, стало на мгновение очень страшно, именно из-за полной беспомощности и невозможности бороться.
– Готов парень. Отвоевался… – громко и ясно сказал кто-то рядом.
Стало обидно и страшно, что бросят. А я ведь жив. Жив или нет?! Только дышать очень трудно, и рука не шевелится, и нога. Но нет, надо встать. Встать во что бы то ни стало. Я с трудом оторвался от весенней слякоти, простоял, как мне показалось, очень долго и начал падать, но чьи-то руки подхватили меня. Я узнал фельдшера Аронова.
– Э, брат, раз встал – значит, жив будешь, – сказал он мне.
И где-то раздался голос майора Симбуховского: “Бричку! Мою бричку!”»
Я был очень тяжело ранен. Это даже выглядит как какой-то фантастический роман, поскольку по мне танк проехал, – и все-таки остался жив. Раз уж начал говорить, надо сказать, что ногу у меня оттяпали…
Владимир Молчанов: Вы ведь никогда не говорили об том, что вам ампутировали ногу, и вообще в кино даже ваши коллеги многие не знали, что у вас нет ноги.
Станислав Ростоцкий: Нет, и сейчас еще многие не знают. Я помню, как Михаил Ильич Ромм рассказал мне анекдот про безногого человека и взял меня (мы сидели на балюстраде гардероба ВГИКа) за ногу рукой. Я увидел, как человек начинает бледнеть и ему становится плохо. Он говорит: «Стасик, я же не знал, простите меня». Я ему говорю: «Да что вы, Михаил Ильич, за что прощать. Мне, наоборот, это очень приятно. Значит, вы 20 лет не знали этого. И мне приятно это, что вы этого не знаете».
Моя война
Когда меня взяли наконец-то в армию, меня отправили, как и многих других, в странные места с названиями Сурок и Суслунгер. Это Марийская АССР, несколько сот километров от Йошкар-Олы, тайга самая настоящая. Там в это время были организованы запасные стрелковые бригады, которые готовили людей к фронту. В этом лагере тебя за месяц быстренько обучали, обмундировывали и отправляли на фронт. Это были такие поставщики новых кадров на фронт. Жизнь в этих лагерях была ужасающая. Когда я вспоминаю войну, мне, несмотря на все остальное, фронт кажется просто замечательным местом, а эти места – ужасными. Землянки, в которых должно было жить 100 человек, а жило 300. Стекол, конечно, в землянках не было. Мороз до 20 градусов. Количество вшей я не могу перечислить. Есть не давали вообще ничего. Выяснилось, почему не давали.
В одну «прекрасную» ночь – это было уже дней через 10, после того как мы там мирно загибались, – появились странные люди из гражданской войны, в кожаных тужурках, с маузерами, с деревянными кобурами, в кожаных шапках… Все начальство лагеря было выведено перед линейкой, всех писарей, всех начальников штабов и т. д., нас тоже выстроили, и всех их на наших глазах расстреляли. Потому что все, что полагалось нам, они ели сами. Это было первое ужасающее впечатление.
Сейчас даже трудно в это поверить. Потом нас посадили в товарник и привезли на станцию Сурок. В этих лагерях было приблизительно то же самое. Но было единственное отличие. Я никогда не забуду, как нас вывели на переднюю линейку (мы все в своем, домашнем, у нас никакого обмундирования не было) перед светлые очи начальства, вышел человек в шикарной шинели, кожаных перчатках, прекрасной каракулевой шапке и стал нас крыть матерными словами, что мы не солдаты и тра-та-та… Но самое смешное, что у нас, у меня в частности, появилось такое чувство радости. Вот нас ругают, а я рад, потому что я вижу – есть власть, есть кто-то, кто это организовывает, кто не даст, чтобы всю Россию и весь Советский Союз поставили на колени.
Следующим испытанием в этом лагере была еда. Был такой ржавый бак на 7–8 человек примерно. У меня была металлическая ложка, поэтому мне вообще ничего не попадало, пока я не купил за 50 рублей деревянную. Ложку металлическую засунешь – и, пока несешь, с нее все стекает, а деревянной ты успеваешь подцепить и вытащить. В баке была черная вода – тогда я узнал, что такое чечевичная похлебка, – и плавало штук 20 чечевицы. Хлеб возили из Йошкар-Олы на открытых платформах, он замерзал, его пилили пилой. Пайка весила 500 г, но, естественно, доставалось не 500, а 400 г. И она съедалась сразу, в кармане крошилась. В обед давали маленький кусочек тухлого мяса, если ты успеешь… почему-то обязательно тухлого, я не могу понять почему, ведь мороз. Вот так питались.
Однажды ночью меня вызвали в штаб. Выяснилось следующее. У меня о последнем месте работы было написано: фотокорреспондент в «Пионерской правде», то есть я умел снимать. А в это время был приказ Жукова: каждый, кто уходил на фронт, должен иметь фотографию. Очень много бойцов нельзя было опознать, красноармейские книжки были без фотографий. И искали по частям людей, которые умеют фотографировать. Меня сделали полковым фотографом.
Это была ужасающая работа. Электричества не было. В день приходилось снимать 500 человек. Пленки надо было проявить, напечатать на дневном свету. Для этого придумали всякие приспособления в виде щитов на окно землянки. Все это происходило в землянке в жуткий мороз. Руки были совершенно невозможные. Смешно сейчас говорить, но это была адская работа.
Короче говоря, я оказался на прекрасном счету, поэтому меня никто никуда не собирался отправлять. Я несколько раз бежал. Меня ловили, но не расстреливали, потому что я недалеко бежал. Сначала я писал рапорты. На рапорты я получал ответ: 10 суток ареста за то, что прошусь на фронт. Мне приходилось иногда ездить в Казань для того, чтобы купить пленку, и в этом случае нам давали поручения. Получил поручения и я: поймать дезертира. Из этой части случалось дезертирство, особенно среди людей, которые близко жили. Я должен был доставить виновного в часть. А в то время был приказ: дезертира расстреливать перед строем в 24 часа, без суда, сразу.
Мне не пришлось долго искать этого дезертира. Я просто пришел по его домашнему адресу, и он был дома. Это был солидный уже мужчина, имевший троих детей, которые здесь же сидели. И жена. Я увидел все это и понял, что я его не арестую. Я понял, что он хотел еще повидать семью. Не думаю, что он всерьез совсем собирался убежать. Я сказал ему: «Вернись сам! Я думаю, что тебя простят в этом случае. Это будет самоволка. 3–4 дня. И тебя, наверное, оставят в живых. А я должен тебя отвести, чтобы тебя расстреляли. Я не буду этого делать».
Вернувшись, я сказал, что его не нашел. А он буквально на следующий день явился. И все сделал, как я ему сказал. Его не расстреляли. Его, естественно, отправили на фронт.
Кончилось это в конце 43-го года. Меня повышали, я стал начальником бригадной фотографии и жил уже даже в деревянном доме. Наверное, я мог бы прокантоваться там до самого конца войны. Но, к счастью, к несчастью, этого не случилось.
Я написал своему учителю Владимиру Владимировичу Дмитриеву письмо, которое он хранил, где я признавался, что не могу больше здесь быть, я должен быть на фронте. Описал всякие причины почему. Он мне ответил письмом очень грустным. Он писал, что, Стасик, – ты ребенок; кончится война, и все забудут рано или поздно об этом, потому что люди, которые не попали туда, куда ты стремишься, постараются, чтобы об этом поскорее забыли, потому что это может быть им укором, писал, что я совершаю опрометчивый шаг. Тем не менее у меня были друзья, которые служили на фронте. Я приехал в командировку в Москву за фотоматериалами и вместо того, чтобы вернуться обратно в часть, умотал на фронт. Как раз в Москве был кто-то из моих друзей, с машиной с фронта зачем-то приехал. Фронт был близко, это была Вязьма. И он меня туда увез.
Меня должны были в 24 часа расстрелять, потому что я сбежал из части. Но начальник СМЕРШа, полковник (сейчас я не вспомню его фамилию), сказал: «Ребята, вы что, с ума сошли? Он куда сбежал-то? Он из вашей (он прибавил ненормативную лексику) части, где спокойно мог жить, сбежал на фронт, на передовую. За что вы его будете стрелять-то? Вы ему благодарность объявляйте». А потом он еще успел, видимо, кому-то моргнуть, и принесли мое дело. В моем командировочном удостоверении, которое я им отдал, было написано: «Задержан в Москве патрулем и отправлен на фронт». А тогда за что мне уже отвечать? Меня просто силой отправили на фронт. Я был счастлив.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Эльдар Рязанов тоже был в той поездке.
2
Родился 21 апреля 1922 года.
3
Фильм «Дети капитана Гранта» (1936, реж. В. Вайншток).
4
Так называлось Царское село в 1918–1937 годах.
5
В. В. Дмитриев – театральный художник, работавший с Мейерхольдом, Станиславским, Немировичем-Данченко, был главным художником МХАТ им. Горького.
6
В то время С. М. Эйзенштейн жил на территории «Мосфильма». Дом, в котором была его квартира, не сохранился.
7
Из дневников.
Встреча с Эйзеном. 11 апреля 1947 года,
15:00. Рассказ о старом гороскопе, который он нашел, где сказано, что за долголетие его не ручаются. Критический год 50 лет. О человеке, составлявшем гороскоп: он составлял гороскоп еще Оскару Уайльду, а у самого правая рука сведена была. Он написал Эйзену, что его цвета желтый, оранжевый, синий. И верно – даже в комнате лампа синяя и стены желтые. Обратные цвета вселенной.
Анекдот о трех школах философии. Анекдот о леди: няня, пойдите на кухню посмотрите, что делают дети, и скажите, чтобы они этого не делали. Сказано по поводу наших работ.
Разговор по телефону с Эйзеном – 17 апреля 1947 года. Рассказывает, как ему звонили из Америки. Он просил позвонить вечером. Тетя Паша передала. Там, в Бостоне, премьера. «Иван Грозный». Интервью шести корреспондентам. Один спросил: «Вы хотите приехать к нам?» – «Да, если меня ласково примут». А то последнее время мы очень заботились о греках и турках. Страшный успех. Разговор о шпаргалках. Умру – вспоминать будете. Сегодня репетиция нежная с матюгом.
8
В феврале 1942 года был призван в армию, из запасной стрелковой бригады сбежал на фронт. Воевал рядовым в 6-м Гвардейском Кавалерийском корпусе, прошел боевой путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно, под Дубно был тяжело ранен.