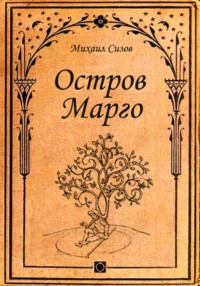Полная версия
Сущник

Михаил Сизов
Сущник
ПРЕДУВЕДАНИЕ
Ритке Фёдоровой из п. Золотец 70-х годов ХХ века
Я пишу эти строки пером и чернилами на бумаге, сделанной из волокон растения. В моих покоях приятный сумрак, разрезанный узким столпом света, в котором роятся золотые пылинки. Откинувшись в кресле и взирая на предупорядоченный хаос танцующих частиц мироздания, я забываю себя. И длится время. За окном едва приметно плывёт облако, и я свободен не спешить. Так неспешен путник в вечности. В его пути нет начала, но есть порог, через который должно переступить. И нет конца, но есть очередное окончание.
О том и свидетельствую, ибо находился при окончании мира в семитысячном году по иудейскому упованию. И видел реченное патриархом Левием: «В седьмой же юбилей будет мерзость, коей не могу высказать перед лицом людей, ибо тогда узнают, как творить её. Оттого пленены будут и ограблены, и исчезнет земля, как и само бытие их» (Завещание 12 патриархов, от Левия, гл. XVII).
Заверителями записанного мной по доброму обычаю да будут соименники, друг с другом не знакомые. Один открыл мне душу. Другой – мой нынешний беседчик-прекослов, чей хладный ум и непредвзятость известны миру. К сему и руки приложили:
«Probatum est. Печаткой юности своей удостоверяю: Marcus Annius Verus. Сие кольцо свидетель всех твоих нежданных посещений и споров об ὅλων λόγον, в котором я тогда готов был раствориться. Ошибочность чего и признаю. Во славу Господа, дарующего жизнь».
«Прочитал. Да вроде всё верно, кибер свидетель ;-)».
I. БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

Дверь в спальню
С чего же начать? С той холодной ночи со звёздами в небе – безучастными ко всему, как снулые рыбы в зимнем пруду? С идущего впереди незнакомца? Марик видел только спину водителя Зил-130, который привёз его туда, – рубчики фуфайки и отвислый хлястик с засаленными, металлически отсвечивающими краями. Потом были пять бетонных ступенек, звон дверной пружины, длинный коридор, устланный пузырившимся линолеумом… Марик помнил это смутно. Он хотел тогда спать, мучимый затянувшейся morbus angelicus – ангельской болезнью, как остроумно называл бессонницу один мой знакомый лекарь. Воспалённый ум, по слову этого эскулапа, куда болезненней, чем воспалённый зуб. Ибо зубную боль можно убаюкать в мокрой от слёз пуховой подушке, а разум бесплотен и неприручаем… Или начать с того, как он вернулся домой, и там было другое небо – с подохшими рыбами? Так он это почувствовал. И увидел, как истаивает в чёрном вакууме сама сбыточность жизни. Пожалуй, тогда и началась его война? Или раньше – на той альпийской каменистой тропе, обагрённой кровью вечника?
Лучше уж начну с самого начала.
Впервые чудноватая способность различать живое-неживое проявилась у Марчика в два с половиной года от роду. В ту пору мама была всегда живая. Ему нравилось трогать её ворсистое платье, приятное на ощупь, и тянуть к полу тяжёлые бархатные занавеси в спальне. Нравился огромный комод с разноцветными флакончиками, расчёсками и фигурками тонконогих зверушек. И перстни на её пальцах. И платиновые волосы, сплетённые в косу, и серо-голубые очи.
Она сама кормила грудью, что отец поминал спустя годы, называя атависткой и почему-то сектанткой. Шутил, конечно. И смешные казусы рассказывал, как мама поначалу паниковала: «У него правое ухо больше, чем левое! Они разные!» Боялась патологий из-за того, что младенец появился на свет через роды, а не доращивался в инкубаторе. «Да он просто отлежал ухо, – успокаивал отец. – Смотри, во сне на подушке оно как листик подворачивается, вот и распухло».
Марк смутно помнил, как ползал по ней настоящей – тёплой и гладкой, в шёлковой сорочке. А потом мама стала неживой. Это произошло сразу после его прогулки по зелёной траве, в которой копошились и гудели уже виденные на комоде тонконогие зверушки. Та же самая мамина рука гладит его по голове, перебирает волосики – но рука другая. Да и рука ли это? Он чувствовал перемену, но виду не подавал. Что-то подсказывало: другие не должны знать, что он знает. В непонятном окружении надо быть осторожным и беречь свои маленькие тайны, которые могут вырасти в спасительные преимущества.
Когда Марчик встал на ножки, он, бывало, ночью прибегал в мамину спальню и залезал к ней под одеяло. Поэтому для него дверь спальни всегда была открыта. Однажды днём мама зашла к себе и долго не выходила. Марчик почувствовал: её там нет. Вообще нет. Он прокрался за дверь и огляделся – мамы и вправду не было. Это было похоже на игру. Ребёнок заглянул под кровать, под комод. Отвёл в сторону край тяжёлой занавеси и заглянул в будуар. Там было темно. Когда он ступил внутрь, помещение осветилось. Слева вдоль стены в воздухе висели мамы. Они были все одинаковые, различались только платья на них – некоторые очень красивые, с блестящими украшениями. Сначала Марчик смотрел на мам, ничего не понимая, а потом с воплем кинулся прочь.
Пришёл он в себя от тряски – отец, сжав его плечи, пытался говорить успокаивающе:
– Марчик, Марчик, не бойся. Всё хорошо. Мы с тобой. Вот мама, вот папа…
Затем ребёнок стал свидетелем скандала. Отец кричал на маму – единственный раз на памяти Марка:
– Ты в своём уме?! Это же так просто – сказать киберу, чтобы запирал дверь, когда тебя нет в комнате!
– Серёж, но как я могла сказать ему, он же был выключен.
– Ты в спальне отключила видеоконтроль? Атавистка! Кибера стесняешься, а лучше бы сына постеснялась! Ну зачем ты эти куклы коллекционируешь?
– Вам, мужикам, легко говорить. Тяп-ляп, слепили дабла в типовом костюме, и никто вам в гэстинге слова не скажет. А нам нужно хоть какой-то наряд подобрать…
– Так внеси эти свои наряды в программу! Зачем даблы-то хранить?
– А макияж? Он много времени занимает.
– Макияж тоже в программу! Какая тебе разница?
– Ну, нет! Помаду и тени надо по живому наносить…
– Какое ещё живое? Это же куклы!
Голоса родителей доносились в детскую через полуоткрытую дверь, и Марчик засыпал с чувством, что всё хорошо. Просто мир так устроен: люди всегда куда-нибудь уходят, оставляя вместо себя кукол. Куда уходят? Неведомо…
Машинки
Детское сознание парадоксально, но, к счастью, не догматично. Поэтому даже самые нелепые фантазии малыша не имеют вредных последствий – они условны, как игра. Такой игрой была и ненависть к зверушкам с маминого комода. Это они виноваты! Зверушки ожили на травяном поле – и после мама стала неживой.
Как он попал на то поле, в памяти Марчика не отложилось. Сначала был испуг – у комнаты не имелось потолка! Над головой плыли облака и утягивали взгляд за свои пушистые края в самую-самую даль безграничья. Малыш опустился на четвереньки, чтобы туда не смотреть, и ухватился ладошками за зелёные стебли. Так надёжнее, не упадёшь в облака. Теперь трава прятала его по самую макушку. Прямо перед глазами по стеблю вверх карабкался знакомый зверёк. Но почему-то очень маленький – в маминой спальне на комоде они были намного больше, с его кулачок. Марчик тронул пальцем твёрдое, желтоватое в крапинку тельце – игрушка свалилась вниз, а потом снова поползла вверх. Упрямая, как его любимая заводная машинка! Машинка доползла до верхушки стебля и сломалась – из спины что-то выскочило, затрепетало. С изумлением малыш наблюдал, как взлетевшая в воздух жёлтая капля с жужжанием полетела прочь. Вот это игра! Он двинулся на четвереньках вслед за беглянкой и сразу увидел её перед носом, она всё так же ползла по стебельку. И тут же понял, что она другая. Понял не умом, соотнеся расстояние и время, за которое беглянка не могла так быстро вернуться, а просто ощутил её самость. Это была не машинка! А жизнь со своей собственной волей – той сущестью, которая или есть, или её нет.
Малыш встал на ножки и побежал, смеясь от радости. Зелёное море низкорослой травы, усеянное жёлтыми цветами, простиралось далеко за горизонт. Он бежал, размахивая ручками, запнулся, упал ничком и, перевернувшись на спину, увидел, как вверху в синеве плывёт белое яйцо – стремительно увеличиваясь в размерах. Яйцо было неживое. Когда оно зависло прямо над малышом, от чёрного круга, заслонившего полнеба, отделилась светлая точка и невесомо стала спускаться к нему. Точка была живая, Марчик определённо это знал. Скоро он услышал папин голос, твёрдые тёплые руки подхватили его и понесли ввысь.
Даблы
Лишь много лет спустя Марк узнал во всех скандальных подробностях, почему его посвящение в сущники проводилось не в ковчеге, как было принято, а на терроформируемой планете. И какой тарарам произвела вроде бы ничего не значащая цифра.
Когда мальчик появился на свет, на праздничную трапезу собрались все обитатели ковчега «Назарет» – некоторые даже покинули стазис-камеры, чтобы поприветствовать младенца не в оболочке дабла, а в своём драгоценном бренном теле. Поднимались тосты, говорилось много речей. Один из гостей, занимавшийся в ту пору историей гностицизма в доиндустриальную эпоху, обратил внимание, что дата рождения младенца – 7 октября 3222 года от Рождества Христова – имеет три двойки и предстоящее им основание 3, показывающее количество цифр.
– На что указует нам это основание? – витийствовал оратор. – На то, что мы должны произвести некое суммирование, поскольку цифра три описывает процесс элементарного сложения, включающий в себя два члена и один результат. И вот давайте суммировать… Если по правилам гностической нумерологии сложить греческие буквы слова NAZAPHNE (Назарянин), то в сумме получится 222. И если сложить буквы слова ГAIHS (Земля), то также получится 222, как в дате рождения. Из чего следует, что этому новорождённому насельнику «Назарета» предстоит найти новую Землю и положить конец нашим скитаниям!
Заумная речь нумеролога вызвала разнотолки и породила у назаретян экзотические теории. Спустя семь месяцев была Пасха, и прибывший с ковчегом «Мегиддон» епископ Игнатий назвал всё это мерзкой каббалой. После крещения младенца он сказал в проповеди:
– Братья и сестры, некоторые здесь толкуют о совпадении чисел. Позвольте и мне, человеку не столь учёному, порассуждать об этом. Даже ребёнок знает, что цифры не существимы. Они суть умозрительные образы, придуманные для удобства счёта. И что означает совпадение цифр? Ни-че-го. Ваш ковчег был построен одним из первых, он имеет славное имя, и будьте достойны этого, не шутите с древними ересями. Даже мёртвый, высохший в пустыне змей может отравить своими кристалликами яда, стоит лишь прикоснуться к ним.
Речь Преосвященнейшего походила более на отповедь, чем на проповедь. В гостях он не задержался. Помолился перед древней чудотворной иконой «Благовещение», которой славился «Назарет», и отбыл духовно окормлять другие ковчеги, коих в ту раннюю Пасху собралось на праздник изрядно.
Прошло два года и настало время для инициации – «мирского крещения», после которого начинается воспитание в ребёнке существимости. Мама предложила провести её на планете, терроформированием которой занималась вместе с биологами из других ковчегов. Тут же по общине «Назарета» пошёл ропот: направлять ковчег к планете, где имеются даблы чужаков, чистое безумие. Одно дело скреатить дабла и работать там дистанционно, и совсем другое – явиться в сущем теле и притащить с собой весь «Назарет», стазис-камеры которого хранят пять сотен вечных жизней. Вопрос даже не в приличиях – хотя срамно же показывать чужим свой вещественный дом! – а в элементарной безопасности. Кто знает, что взбредёт в голову мумми, чьи даблы также трудятся на терроформировании? Ненависть этих конченных вечников, никогда не вылезающих из стазис-камер, к «живородам» всем известна. Их просто бесит от «кощунства» ортодоксов, попусту транжирящих биологическое время на вынашивание детей в животах, на сорокадневные посты и ещё какие-то церковные ритуалы. «Разве нельзя кадилом махать, песни петь, находясь в теле дабла? – возмущались они. – Что за издевательские причуды, подрывающие абсолютную ценность бессмертия? Как христиан называть после этого? Трупники, некрофилы, падаль…» И вот где гарантия, что эти озлобленные мумми не жахнут из всего возможного и невозможного оружия, как только «Назарет» обнаружит себя в обозримом пространстве?
Всё это Елене и Сергею Старковым в лицо не высказывали. Но за спинами судачили. Помянули, что Елена на «Назарете» пришлая, взятая замуж с ковчега «Патмос», обитатели которого называют себя древлеправославными. Епископ Игнатий всячески этих староверов обхаживает, сообщает координаты пасхальных собраний, а те даже на праздничной службе наособицу стоят, свои земные поклоны бьют. О таких говорят: заставь Богу молиться, так ведь лоб расшибут. Ну, разве девяти месяцев вне стазиса не достаточно? Выносила ребёнка, родила – и вертайся в холодильник. А она ещё два года биологического времени потратила, с дитём возилась до самой инициации. Да какая разница ребёнку-то? Дабл – точная копия тела, вплоть до мельчайших молекул, и в нём вполне можно жить дистанционно, сохраняя свою бесценную тушку в криокамере. Ан нет, святошу из себя строит! А сама-то обмирщилась с терроформированием этим. По сути, богопротивное же дело. Ведь не для людей там травку посеяли и насекомых развели. Кто ж из вечников поселится на обычной, локализованной в пространстве планете, где нет возможности укрыться даже от примитивных бомб индустриальной эпохи? А для кого тогда терроформируют? Елена и не скрывает: новых существ там выращивает, которые должны продолжить жизнь во вселенной после вымирания человечества. Сидит в своей лаборатории, колдует над генами насекомых. Ой, много на себя взяла, демиургом себя возомнила!
Так ворчали долгоживущие, от суждений которых на предстоящем собрании зависело общее решение, поскольку насельники помладше против их авторитета не бунтовали, а совсем уж зелёная молодёжь так вообще молчала, воспринимая подобные сходки как спектакль. Но с самого начала стариков заткнул дед Григорий, о существовании которого все подзабыли. Почти сто лет он не появлялся – ни в своём теле, ни в оболочке дабла. О возрасте его ходили легенды, будто бы родился старый хрыч ещё в индустриальную эпоху, задолго до открытия эоса, а сохранился, потому что был в космической экспедиции – проспал там всё время в анабиозе, и ещё какой-то парадокс Эйнштейна повлиял. И вот теперь по привычке дрыхнет в криокамере, используя пристанище вечников ненадлежащим образом – для всё того же анабиоза. На «сходняк» дед явился слегка пьяным. Вкратце речь его звучала так.
– Товарищи братья-сёстры, вот говорят про меня, что я носа не кажу из холодильника. А что мне здесь делать? Смотреть на ваши постные рожи? Или выращивать мух, которые должны заменить человека, или искать обратную сторону эоса? Мир этот обречён, он бессмысленнен. И вы это прекрасно знаете. Доколе? Болтаемся в космосе как дерьмо в проруби, шарахаясь от каждой тени. А ведь война давно закончилась, уже полтыщи лет как глобы спалили стоперов, а заодно и все обитаемые планеты. И все боятся ступить на твёрдую землю, а ну как сверху прилетит! Это не жизнь, а блудеядство, выражаясь по-церковнославянски. Только одна у нас надежда – дети. Может, они чего-то придумают вместо нас, вырожденцев. А где они, дети? На моей памяти в ковчеге не более семи десятков родилось, а за последние сто лет – ни одного. Ковчег на вырост строили, а консерварий пуст, как полночная электричка «Урюпинск – Мухосранск», девяносто процентов ячеек не занято. И вот рождается парень. Слышал я, прочат ему славную будущность, карты хорошие выпали, три двойки…
– Брат Григорий, не грешите, – прервала словоизлияние старика матушка диакониса. – Владыка же сказал, что нумерология это грех.
– А не согрешишь, так и не покаешься! – возвысил голос дед и опасливо глянул на матушку. Она, как и другие церковнослужители, была весьма уважаема в общине, поскольку тратила своё биологическое время на еженедельные воскресные молитвы в главном соборе ковчега. Но матушка промолчала, и Григорий Степанович продолжил, уже с меньшим нахрапом: – Не пристало нам в нашем положении фарисействовать, надо цепляться за любой шанс. Мальчик – наше будущее. И это будущее должно встать своими ножками на тёплую живую землю, чтобы когда-нибудь всех назаретян и всё человечество привести в землю обетованную, покончив с позорными скитаниями по вонючим тёмным закоулкам. Я за то, чтобы лететь на ту планету.
На грубости деда никто не обиделся, как не обижаются на чудаковатого родственника. Отец же Марчика даже эстетическое наслаждение получил от прений деда с оппонентами и записал себе несколько устаревших нецензурных выражений. До того, как присоединиться к сообществу физиков, Сергей Николаевич долгое время занимался филологией, и влечение к родной словесности в нём не угасло.
Как ни странно, выступление деда и «три двойки» решили дело. Ковчег прибыл к планете и полчаса провисел над северным полюсом, куда редко заглядывали терроформисты. Обряд посвящения в сущники вообще-то был анахронизмом, но его в некоторых общинах соблюдали даже мумми. Риск рассуществиться – потерять себя в виртуальности эоса и гэстинга – грозил всем одинаково. Для обряда подходил любой реквизит, лишь бы это было что-то материально-реальное – настоящее дерево, посаженное предками в ковчеге; комната, обставленная антикварной, а не вынутой из дубликатора, мебелью. Иногда ритуал проводили в открытом космосе, посчитав, что нет ничего более сущего, чем свет звёзд. Но то было сомнительно – пустота не место для человека сущего. А терроформируемая планета с настоящей растительностью и даже кое-какой живностью – она подходила идеально, это все признали.
Марчик видел, что мама и папа очень рады видеть его после той прогулки. Они говорили что-то непонятное о пластмассовых машинках, у которых должны иногда отваливаться колёсики, о мнущейся траве, о настоящих облаках в настоящем небе, и что он должен быть таким же настоящим, как трава и небо. Марчик чувствовал неуверенность родителей – они не знали, что и как надо говорить маленькому человечку. Может поэтому они промолчали о главном, что малыш для себя открыл, – о человеческой способности различать живое и не живое?
Растерянность родителей была объяснима – ведь это первый их ребёнок, и вообще первый в ковчеге за сто лет. Как его воспитывать? Дед Григорий, бывший космолётчик, потративший впустую лучшие свои годы на поиск внеземных цивилизаций, заметил на это: «Во вселенной единственные инопланетяне – это дети. С ними каждый раз нужно налаживать контакт».
Эта фраза прозвучала вскоре после той истории с мамами-куклами, нанёсшей, как считала Елена, страшную психическую травму ребёнку. Чтобы пережитое как-то изгладить из сознания Марчика, требовалось сменить обстановку – и маленькая семья Старковых из своих комнат нижнего жилого яруса переехала в дендрарий, где община выделила землю под дом. Однажды ранним утром, когда плоское искусственное солнце лишь начало своё скольжение по куполу, в окно домика постучали. Сергей прошлёпал босыми ногами к окошку, раздвинул занавески. Улыбающееся лицо деда Григория беззвучно шевелило губами, рукой он показывал на открытую калитку. Сергей махнул рукой в сторону крыльца: там тоже не заперто. Войдя в прихожую, дед поздоровался и прижал ладонь к сердцу:
– Извини, хозяин, что без спроса – у вас тут ни звонка, ни колокольчика.
– Какого колокольчика? – не понял Сергей.
– Проходите, Григорий Степанович, – заглянула в прихожую Елена, запахнутая в халат. – Сейчас кофе поставлю.
В горнице, усаженный за стол, гость огляделся:
– Хорошо тут у вас, по-деревенски. Прежде не видал я здесь таких хором. Сами проектировали?
– Нет, матрица, – односложно ответствовал Сергей. – Но вы правы, матрица не здешняя. Жена привезла со своего ковчега. Это копия сельского дома из-под Костромы, был такой городок в России.
Пока Елена накрывала на стол и заглядывала в детскую, дед и Сергей молчали. Беседа почалась лишь после молитвы и приступления к трапезе. Гость, как и положено, выразил восхищение, сколько подлинных вещей в убранстве комнаты. Хозяин также ритуально посетовал в ответ, что, к сожалению, всё здесь из креатора.
– Вот единственная настоящая вещь, отец мой подарил, – Сергей показал на модель парусного корабля, подвешенную к потолку. – Да у супруги есть комод, он в спальне стоит.
Дед вежливо поцокал, давая понять, что на осмотре комода настаивать не будет. И тоже попенял:
– А у меня только железяки да кое-что из электроники, со своего корабля снял. Милости прошу в гости, отсек мой прямо над техническим ярусом.
Сергей с Еленой переглянулись: «отсек» – вот ещё одно словечко в копилку бывшего филолога.
– Ну, дорогие хозяева, чего тянуть кота за хвост. Скажу, зачем пришёл, – дед посерьёзнел. – Ты же, Елена Петровна, сейчас не в дабле?
– Да, это так.
– Извините, до сих пор не научился отличать настоящее от дабла.
– Не стоит извинений, – сухо ответил за супругу Сергей, – вы же знаете, их отличить невозможно.
Дед слегка смутился – ох, уж эти условности – и спросил напрямки:
– И когда, Елена Петровна, вы думаете возвращаться в консерварий? Я-то не люблю пересуды, да и почти не общаюсь ни с кем, но люди говорят, что это уже перебор. Вы губите свою жизнь.
– Спасибо вам, Григорий Степанович, за участие, – вежливо склонила голову Елена. – Но беспокоиться не стоит. Я только два года с Марчиком была, и после посвящения на планете вернулась в консерварий. А сейчас не в дабле, потому что… ну, было одно происшествие.
Хозяйка договаривать не стала, поймав мрачный взгляд мужа. Гость ещё больше застеснялся, перевёл разговор на другое:
– А почему планету, которую вы терроформируете, называют планетой? У неё нет названия?
– В космоатласе есть числовое обозначение, о чём вы, космолётчик, прекрасно знаете. А человеческое название мы, биологи, решили ей не давать.
– А-а, понимаю, – протянул дед, – оставили эту честь существам, которые там вырастут. Что ж, красивое решение. Знаете, я тут тоже думал, думал и решил. Ребёнку и вправду нужен кто-то в настоящем теле – в этом я вас целиком и полностью поддерживаю. Поэтому вот что предлагаю. Ты, Елена Петровна, давай шагом марш в консерварий, а я побуду с парнишкой. Не обещаю, что долго. Может, год, может, больше.
– А как же…
– Мой возраст? Молодость не вернуть, чего уж теперь дуть на сбежавшее молоко. В холодильнике я был долго, обратно пока не хочется. Так что вполне располагайте мной.
Сергей помолчал и, глянув на жену, предложил:
– Через год мы начнём подбирать учителей для Маркуса, и заранее просим вас вести курс существимости. А пока будем рады просто вашим визитам… Может, вам удастся найти контакт с мальчиком.
Вот тогда старый космолётчик и выдал сентенцию про детей-инопланетян.
Глаза и камешки
– Деда, а почему они корчатся? Им больно?
– Они слепые, поэтому извиваются, чтобы землю свою найти. Мы же их из земли вытащили. А больно… не знаю, Маркуша. Ты, это, сильно пальчиками не сжимай, легонько так… и насаживай. Молодец. А теперь поплюй.
Марчик старательно сплюнул на крючок с червём и, подражая деду, мотанул удочкой, закидывая наживку в воду. Затем уставился на поплавок. Молчать долго он не умел:
– Деда, а они настоящие?
– Кто?
– Червяки.
– Так ты уже спрашивал.
– А сейчас они настоящие?
– Что же с ними сделается? Как были настоящие, так и остались.
– Деда, а рыбы настоящие?
– Вот поймаем и посмотрим. Ты помалкивай, а то улов спугнём…
Старик и трёхлетний мальчик сидели на берегу небольшого круглого озера и удили рыбу. Это был первый их поход к озеру. Вдруг Марчик вскочил и, едва не выпустив удочку из рук, истошно закричал:
– Ловль!
– Тащи её! – Степаныч тоже вскочил на ноги.
В воздухе сверкнуло что-то серебристое и упало в траву. Малыш склонился над трепыхавшейся добычей и разочарованно протянул:
– Игру-ушечная.
– Знамо дело, – поддакнул дед, – они же все маленькие, плотвички-то.
– Не настоя-ящая…
– А ты как угадал? Ну, клади в ведёрко свой почин и червяка снова насаживай. Они хоть и боты, а жрут червей будь здоров.
– Деда, а боты это те, кто не настоящий?
– Ну, вроде того.
– А почему боты?
– Так их называют. Есть русское слово «работать», и вот один древний писатель, Чапек его фамилия, от этого слова придумал другое – «робот». Но у нас же народ ленивый, и, чтобы длинное слово не говорить, сократил его, вот и получился «бот».
– У меня тоже есть игрушечный бот, он умеет ходить, и мы с ним разговариваем. Только он глупый, а с тобой, деда, интереснее разговаривать.
– Ну, спасибо, парень. Они глупые, потому что у них мозгов нету. Вот у этой рыбицы не мозги, а биоэлектроника. Хочешь посмотреть?