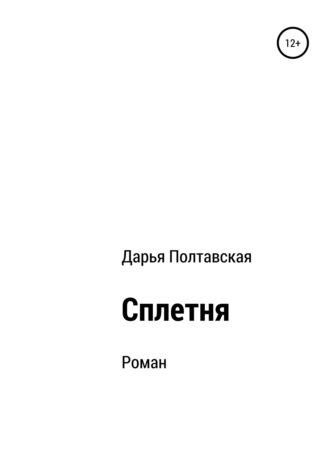 полная версия
полная версияСплетня
Похолодев, Гумала повернулась к старшему и прижала руку к сердцу:
– Астамур?..
Сын независимо дёрнул плечом:
– Надоел очень. Кричит и кричит, и ничего с ним не сделать. Словно он не мужчина. А так хоть не слышно.
– Мы его честно предупреждали, – выдал козырь Даур. – И не один раз. Всё по справедливости!
Гаркнуть на сыновей нельзя, женщина на джигита не кричит… так мама учила. Гумала стиснула кулак, тяжело сглотнула и медленно произнесла:
– Где. Ваш. Брат.
– Да мам, ну ничего же страшного, в яме он, с утками, хотел бы – вылез бы уже давно! – Даур искренне не разделял ее паники, но Гумала уже не слышала: она неслась к «яме» – глубоченному оврагу, рассекавшему надвое перелесок за дальним концом их двора. Там и впрямь жили утки, им нравились царящие в овраге сырость, полумрак и мягкая пружинистость вечного мха под лапками.
Хасик, обняв коленки, сидел на огромном валуне на самом дне оврага. И молчал.
Почти скатившись по скользкому склону, Гумала схватила сына, обняла, прижала к себе:
– Ора, почему же ты не вылез, здесь сыро, зябко, горло не болит? Ты не ударился? Не замёрз? Что случилось? Что ты молчишь, сынок?!
Хасик шмыгнул носом – совсем как его брат – и уткнулся в материну грудь. И не заплакал. Бурно и вязко дышал, рывками загоняя слёзы обратно, но изо всех сил – не плакал.
Гумала долго прижимала его к груди, почти баюкая и дожидаясь, когда он снова сможет говорить. Только сейчас она поняла, как за него перепугалась. В горле словно разжался ледяной кулак – но вползло другое: тоскливый, разъедающий страх, что он этого братьям не простит.
Нет. Нет, только не это. Их трое, её мальчиков, им нужно крепко держаться друг друга, только тогда они смогут выстоять без отца. Трое…
* * *
…В тот страшный, не такой уж далёкий год эпидемия бродила из дома в дом. Вползала тихо, незаметно, как змея, и вот уже, прямо посреди ночи, ещё один ребенок начинал метаться в жару и бреду. Взрослых тоже косила, испытывая на прочность – и прочности хватало не всем.
Вот и Темыров дом накрыла беда: два младенца задыхались в раздирающем лёгкие кашле, прямо на глазах теряли силы. От Гумалы остались одни глаза – пятые сутки не спала, не ела, вымаливала у беды своих сыновей. Сама держалась каким-то чудом. А куда ей деваться: дашь слабину – и беда заберёт. Насовсем. Нет.
Скрипнула дверь – вернулся Темыр. Тяжело топтался в сенях, что-то стряхивал, медлил. Потом тихонько, на цыпочках, зашёл к малышам. Астамура, не тронутого болезнью, пристроили к соседям; двое младших, покрытые испариной, с лихорадочными пятнами на щеках, сквозь полусон тяжело выкашливали последние силы.
Господи, как ей сказать?..
– Обара… Я не знаю, как тебе сказать…
Гумала подняла на него глаза. Они и всегда были большими, но сейчас в них запросто мог потонуть дом.
– Приезжал врач. Из райцентра. Сыворотку привёз. В городе многих спасла, хороший результат даёт. Говорят.
В огромных глазах вспыхнул тёплый свет надежды. Гумала подалась вперёд, к мужу…
– Нам дали одну. На всех в селе никак не хватает. Нам дали одну…
* * *
Гумала зажмурилась и ещё сильнее прижала к себе вздрагивающего Хасика. «Нам дали одну…». Той страшной ночью она выбрала Даура. Сама выбрала. Одна. И никогда ему не говорила, чьей жизнью куплена его разбитная, хулиганская голова. Братья просто знали, что был младший – и ушёл.
Он приходил к ней по ночам. Тихонько садился в углу и вопросительно смотрел в глаза. Почему – так?..
С тех пор Гумала ненавидела ночи и слово «выбор». А когда родился Хасик, обрушила на него всю нежность и материнскую тоску по обоим. Любила старших, выживших, и младшего, пришедшего. И того, растворившегося в небе… Любила отчаянно, без памяти. Без меры. Без дна.
– Вас трое, Хасик, – сказала она в тёмную макушку на своей груди. Подняла голову и увидела смущенно жмущихся к ольхе на краю оврага старших. – Помните это всегда: вас – трое. И вы – одно.
* * *
Хасик шел по двору размашистым спокойным шагом. Солнце садилось, красное, тяжёлое и тоже спокойное, как он сам, как трава на его дворе, как горы за двускатной крышей.
Это и есть жизнь, думал он. Настоящая жизнь. Не то что в городе, где и пощупать её не успеваешь – вечно куда-то бежишь, спешишь, опаздываешь… Зачем это? Зачем суета? Вот у нас её нет – зато есть время понять, какого вкуса воздух. Дауру вон нужна слава, а мне – нет. Мне нужна моя земля. Ну и, ещё, братья. И, конечно, мама.
Хасик усмехнулся: мама-то считает, что ему нужна ещё жена, и ещё дети, и ещё дом побольше, чтобы всех вместить. Посмотрим, посмотрим… Куда спешить?
* * *
Сыр, хлеб, огурцы, горький перец, аджика, лук. И рис. Хасик любит рис разваренный, почти склизкий, почти пюре. Ну и, конечно, мясо любит, но мяса сегодня нет. Не каждый же день.
– Мам, всё хорошо?
Гумала удивленно взглянула на сына: никогда не привыкнуть, насколько ясно он читает её настроение.
– Ганичка приходила.
– Опять Марину сватать, поди? – усмехнулся сын. Добро, как просили, он помнил, и, если что, всегда первый шел Ганичкиных заплутавших телят искать или упавшие заборы чинить. Но внять печалям кормилицы насчет её дочери Марины упорно не желал.
– Нет, милый. Сплетня у них.
Хасик насторожился и с опаской взглянул на мать. Не надо бы, чтобы до неё дошло. Он же Гураму уже всё сказал – что ещё?
– Да много ли печали в сплетнях – забудь и всё.
– Нехорошо там, Хасик… Не по-чистому. Скажи, ты в город ездил – к Астамуру, часом, не заходил?
Ну вот. Так и знал.
Хасик положил открытые ладони на стол:
– Мама, был я у него, с Дауром вместе приезжал. Всё у них хорошо. А значит, и у нас хорошо. Астамур сплетню эту знает, не нова. Велел плюнуть в лицо тому, кто язык распускает почем зря.
– Ой! Хорошо как! Спасибо, сынок, – повеселела Гумала. – Надо бы съездить, внучку повидать.
* * *
Через пару дней Хасик, вернувшись с работ, обнаружил мать в настроении боевом и воинственном. Прихлёбывая картофельный суп, искоса взглянул на неё:
– Боюсь спросить.
– Правильно! И бойся. И они пусть боятся, чтоб им неповадно было! – Гумала решительно грохнула какой-то сковородкой.
– Ясно. Ганичка пришла, Гурам подослал.
– В святилище им поклясться! В аныха7, говорит, иди! Ишь, чего удумали! Где это видано, чтобы без греха в святилище идти, святотатствовать?!
– Мам, ну какое аныха – двадцатый век на дворе. Самолёты, ракеты, поезда…
– Угу, двадцать веков-то до тебя люди, небось, не глупее твоего рождались. Ракетой, оно конечно, разбомбить всё можно, да только сам знаешь – со святилищем шутки плохи.
Хасик знал. Несмотря на двадцатый век и поезда, трава вокруг деревьев и валунов аныха росла небывало пышной, сочной и, главное, высокой, потому что ни один бык или коза ближе двадцати метров к тому месту подойти не решались. Почему – ученые искренне ломали головы уже не одно десятилетие, но пока, кроме заумных слов «паранормальное явление», ничего не придумали. Что-то там такое водилось, в этом святилище, с чем – мама совершенно права – шутить не следовало.
– Ну и не ходи, – примирительно сказал Хасик.
– Ну и не пойду! – воинственно ответила мать. Потом, пожевав губами, горько добавила: – Далась им эта наша Асида… Пятно, пятно… Ну что за сплетня дурацкая? Подумаешь, восемь лет ждали… И не такое бывает!
Хасик молча ел суп, аккуратно отламывая большие ломти пышного белого хлеба.
– Послушай, сынок… Не дадут они мне жизни. Так и будут потихоньку клевать. Привези мне Астамура, пусть сам с Гурамом поговорит.
– Он не будет. Ему не в чем каяться.
– Заедят они меня, – тоскливо прислонилась к косяку Гумала. – Столько лет мы им на язык не попадались. Вот ведь шакалы. Это ж радость – девочка родилась… Красавица…
* * *
Хасик снова сидел на разогревшейся за день скамье у Астамурова дома, и настырный луч морского южного солнца снова щекотал его сквозь виноградное кружево листьев. Астамур вынес сыр, мёд и немного хлеба. Асида, улыбаясь, помахала в окно и показала жестами, что, мол, скоро тоже выйдет: малышке пора гулять.
– Они тебе не поверили и требуют доказательств, – не спросив, констатировал Астамур, откупоривая небольшую бутылочку вина. – Даже интересно, как они их себе представляют.
– Они маму тиранят. Велят в святилище идти, клятвы давать.
– Так она ж не пойдет.
– Так они-то всё равно тиранят.
– Мда, дела, – задумчиво протянул Астамур, тщательно пережёвывая пропитанный золотым мёдом кусок мягкого белого сыра. – Может, Даур своих ребят попросит, они в газете напечатают: дорогой, мол, Гурам, не переживай, всё по правилам, точно тебе говорим.
– Слушай, – не выдержал Хасик, – я, конечно, восхищаюсь твоей выдержкой, но откуда она вообще взялась, сплетня эта?
– А, – беспечно махнул рукой молодой отец. – Асида сама виновата. Её предупреждали. А она же всё равно свое гнёт – принципиальная очень.
Хасик растерянно посмотрел на окно.
* * *
Асида уродилась вся в отца: принципиальная, честная, а главное – крайне решительная. С самого детства у неё были совершенно чёткие представления о том, что в этой жизни правильно, а что требует некоторой доработки.
В частности, в большой огранке нуждался Асидин брат, Шалико. Вот уж кто принимал все радости жизни с широкой улыбкой и даже там, где работы было куда больше, чем удовольствий, умудрялся создать себе атмосферу комфортного сибаритства. Он всегда был душой компаний и крайне редко – звездой партсобраний; его все любили – и он в ответ тоже всех любил. Особенно женщин. Претенденток на его внимание всегда водилось в избытке, и Шалико, движимый врождённым чувством справедливости, одаривал теплом и сочувствием всех, кто только попадал в поле его острого зрения – всех в равных долях, никого не предпочитая, дабы, не дай Бог, не обидеть остальных.
Это было, разумеется, совершенно неправильно, и Асида изо всех своих недюжинных сил пыталась брата образумить и наставить на путь истинный, на что легкомысленный Шалико, приобнимая её за плечи, разглагольствовал, что путь тот пусть и истинный, да уж больно неискренний. Искренний – это когда идёшь, куда сердце велит. Даже если оно велит каждый день новое. Ему видней. Сердцу-то.
Асида горячилась, доказывала, взывала к уму, чести и совести, но Шалико смиренно признавал, что все вышеперечисленное в нашу эпоху уже обрело своих хозяев, а ему лично достаточно ощущения нужности людям. Особенно если они женского пола.
Как ни крути, а обаяние Шалико было столь велико, что Асида ему противиться не могла – и просто всё подряд прощала. Как и все женщины в его жизни. Все, кроме одной.
Эта самая одна была крашеной блондинкой с тугой химией на голове и радикально-красной помадой на губах. Асида бы сравнила ее с Мерлин Монро, если бы поменьше времени проводила за рабочими документами и почаще бы ходила в кино. Шалико как раз подобного упущения себе не позволял, поэтому был в курсе всех трендов, и первым делом дал новой знакомой понять, что блеск её лакированной сумочки совершенно затмил блёстки на платьях всех заморских див сразу. Блондинка всё поняла как надо и сделала из этого наблюдения весьма далеко идущие выводы.
Роман был ярок, как фотовспышка – и столь же краток. Честно отработав положенную, по его мнению, дозу внимания, Шалико стал оглядываться в поисках нового увлечения. Однако в планы его пассии совершенно не входило становиться бывшей. Более того: она уже присмотрела себе фасон свадебного платья и даже намекнула нескольким близким подругам, что да, они имеют все основания правильно догадываться (тут попытка скромно скрыть счастливую улыбку).
Женщиной она была весьма прагматичной, и, быстро осознав, что чувства отнюдь не взаимны, разработала целый стратегический план по выходу на орбиту, то есть замуж. Куда бы Шалико ни приходил, очень скоро она оказывалась рядом и разворачивала вокруг него милые хлопоты старательной молодой жены: приносила тщательно упакованные бутерброды, передавала заштопанные вечером носки, напоминала о записи к парикмахеру, поправляла ему ворот пиджака… К полной растерянности Шалико все вокруг, посмеиваясь, были уже уверены, что и он, старый бродяга, пал жертвою нежной любви, а потому полностью готов осесть и остепениться. В какой-то момент, раздражённый её неустанным воркованием, он не сдержался и рявкнул ей в лицо что-то в духе «отстань уже от меня, а?!» – к сожалению, прямо посреди людной улицы, на глазах у многочисленных товарищей и коллег. Разумеется, его никто не поддержал, и абсолютно все общественные симпатии и сочувствие оказались на стороне хрупкой светловолосой девушки с дрожащими от незаслуженной обиды губами и полными слёз кукольными глазами.
– Что она себе позволяет, а?! – бушевал Шалико, мечась по комнате старшей сестры. – Кто ей что обещал? С чего она вообще всё это взяла?! Подумаешь, пару раз поцеловались!..
– И… всё? – подняв бровь, решилась уточнить Асида.
– Ну… не всё. Ну и что?! Кто в наше время женится из-за таких пустяков?! Если хочешь знать, это она сама первая дала мне понять!
– Что хочет за тебя замуж?
– Что не будет против, если у меня вдруг есть на неё какие-то планы!
Асида только вздохнула.
– Ну послушай, – возмутился брат, – не могу же я жениться только потому, что всем кажется, что хорошо бы? Вот зачем тебе такая сестра?
«Это правда, такая сестра мне совершенно ни к чему», – подумала Асида. Ладно, придется помогать.
– В последний раз, – предупредила она.
– Да мне после такой долго ещё… не захочется, – мотнул чубом Шалико.
О чем и как Асида разговаривала со своей несостоявшейся невесткой, осталось тайной даже для пытавшихся подслушать соседок по общежитию. Однако, когда дверь распахнулась, и Асида, прямая и величественная, вышла в общий коридор, вслед ей донеслось отчетливо слышное: «Я тебе это ещё припомню…»
* * *
Это была самая обычная командировка. Полдня да целая ночь в поезде – и утром на суетном вокзале большого города уже ищешь свой троллейбус до ближайшей гостиницы. По счастью, в этот раз Асиду отправили не одну, а с Валерой, молодым парнем, недавно пришедшим в их универмаг товароведом, так что было кому таскать тяжеленные с чемоданы с ведомостями и отчетами. С делами управились быстро, всё прошло без сучка и задоринки, вечером даже успели сходить в театр. А утром снова сели в купейный вагон.
Асида бы эту командировку даже и не запомнила, если бы ей так старательно не помогли…
* * *
Какое же это было счастье…
Асида никогда и никому бы не призналась, но упорная восьмилетняя бездетность уже не просто удручала, а по-настоящему повергала её в отчаянье. Она была молода, здорова, счастлива со своим Астамуром – всё как у людей. А детей нет.
Свекровь, которая сперва смотрела на неё с надеждой, а потом с недоумением, никогда и словом не обмолвилась – но надо было видеть её лицо, когда Даур и Мадина впервые показали бабушке свою малышку. С какой трепетной нежностью Гумала поправляла одеяльце первой – и единственной пока – внучки. У неё ведь никогда не было дочерей, одни мальчишки, и в этой маленькой принцессе она буквально не чаяла души. «А ведь это должна быть моя, моя дочь! Даур ведь средний», – тайком кусала губы Асида и боялась взглянуть мужу в глаза. Впрочем, он бы никогда и ни в чем её не упрекнул, а что уж он там думал – кому разобрать…
И вот, наконец – наконец-то! – все её надежды воплотились в самую настоящую жизнь. Маленькую, но очень уверенную в себе. Сперва Асида даже значения не придала некоторому нарушению привычных событий, но затем стала что-то подозревать и каждый день с затаённой, от самой себя спрятанной, надеждой следила за изменениями собственного тела. Когда сомнений не осталось, Асида, сама не веря своим словам, прошептала ночью мужу на ухо: «Случилось. Да…» Он не сразу понял, о чем речь, а затем так растерялся, что ей даже стало смешно. Господи, какое же это было счастье…
Астамур её берег, как хрустальную. Вообще, вокруг так не было принято, но мало кому дано ощутить это пронзительное «до-жда-ли-и-ись!..». В какой-то момент он вспомнил про ту командировку и подскочил, как ужаленный: мама дорогая, она же там, небось, свои тяжеленные чемоданы с бумагами таскала! Как бы не навредить! Высчитали вместе с Асидой срок, Астамур обежал всех известных ему врачей и получил их клятвенные заверения, что на таких ранних неделях, почти днях, вообще никаких угроз, ну то есть совсем. Даже вино ещё можно. Хотя не нужно. Утирая пот облегчения, пришёл утешить Асиду – а она смеется: да я ж не одна в тот раз ездила, что ты, мне Валера помогал, ну товаровед наш новый, помнишь, я тебе рассказывала?
Однажды, встречая жену с работы, Астамур увидел этого самого Валеру и бросился к нему, поговорить. Собственно, просто поблагодарить, что так вовремя и удачно составил Асиде компанию.
На следующий день Валера из универмага уволился и из города исчез.
И тут поползли слухи.
* * *
Сперва Асида стала замечать, что стоило ей зайти в рабочую курилку или в столовую своего универмага, как разговоры сразу затихали. Повисало неловкое молчание, сменявшееся нарочито-бодрым обсуждением ерунды. Пару раз она пожала плечами, отмахнувшись от самой себя – мол, показалось, что ещё за новости. Списала на эдакую «беременную странность», даже мужу пожаловалась в шутку, что вот, мол, кого на солёненькое тянет, а у меня подозрительность повысилась.
Потом Астамур, закупаясь на рынке, случайно столкнулся с одной из её коллег. Кивнул бы и мимо прошёл, да что-то царапнуло: девушка так пристально на него посмотрела и затем так суетливо и так старательно отвела глаза, что Астамур даже усмехнулся:
– Обара, Гунда, я заинтригован – никак, у меня хвост отрос или уши позеленели?
Бедная Гунда, окончательно смутившись, густо покраснела и постаралась поскорее убежать.
– Что это с ней, тётя Мрамза, не знаешь? – спросил Астамур знакомую торговку, удивлённо глядя вслед исчезнувшей девице.
– Ну, ты у нас красавец знатный, – весело ответила та, – но я бы на её месте с Асидой-то не связывалась бы, ой не надо бы!
Еще через несколько дней Мрамза уже сама разыскала Астамура в базарной толчее и отвела в тихий уголок. Вид у неё был какой-то странный.
– Ты же знаешь, Астамур, как высоко я ценю твою мать, – непонятно начала она. – Когда у нас настали непростые времена, она первая пришла нас выручать…
Это была правда: семья Мрамзы жила всего через пять дворов от двора Астамура, и когда случилась история, о которой все земляки предпочитали вслух не говорить, именно Гумала первой пришла к матери Мрамзы и протянула руку, предлагая поддержку и помощь. Но, честно говоря, ясности во всей той ситуации было немного, и в чём конкретно там было дело, ни Астамур, ходивший тогда, наверное, класс в пятый, ни его ещё более юные братья совершенно не понимали – просто вдруг оказалось, что та семья теперь живёт раздельно. А потом Мрамза и её сестра Мзия как-то очень быстро вышли замуж и переехали в город, забрав с собой и мать, а отец, оставшись один, стал совсем нелюдимым, старательно избегал соседей и уж тем более их детей. Село побурлило какое-то время – да мало ли у крестьян других забот, так что история вскоре сошла на нет и почти забылась. С чего бы её сейчас вспоминать?
– Я тоже ценю свою мать, спасибо, – Астамур озадаченно посмотрел на собеседницу. Той было явно неловко, она словно собиралась с духом, да никак не решалась что-то сказать.
– Послушай… Тут люди такое говорят… твоей матери бы не понравилось… Но я думаю, лучше, чтобы ты знал.
– Да о чём?! – совершенно сбитый с толку Астамур почти перестал улыбаться.
– Ну… про поезд толкуют, понимаешь? – она с надеждой заглянула в его глаза: вдруг он все поймет сам, и говорить не придётся?
– Про поезд?.. – совсем растерялся Астамур, разрушая её надежду на корню. – А… а что с поездом не так?
– Он ночной, – обреченно вздохнула Мрамза, уже жалея, что всё это затеяла.
– Угу, – Астамур потёр переносицу и усмехнулся. – Тётя Мрамза, я тебя очень уважаю и, в общем-то, почти люблю, ты же знаешь. Но клянусь своей много раз починенной «Волгой»: я даже примерно не понимаю, что ты хочешь мне сейчас сказать. Если ты совсем не можешь объяснить это прямо, то я, пожалуй, пришлю к тебе Даура – он у нас мастер всех этих художественных иносказаний. Просто утешь меня, что тебе не нужна помощь, что никто из твоей родни не попал, не дай бог, на какой-нибудь неправильный поезд – да ещё и ночной – и давай разбежимся, а на днях мы зайдём к тебе вместе с Дауром, сыграем в нарды с дядей Нодаром, пропустим по стаканчику – у меня есть отличное вино, сосед угостил…
– Аста, – вздохнула женщина, – ну что ты несёшь, какое вино. Это тебе нужна помощь, а не мне. Слухи в городе ходят, что восемь лет подряд ты не умел обработать пашню, а молодой товаровед за одну ночь в поезде её отлично вспахал…
* * *
У Астамура потемнело в глазах. Вроде уж и не мальчик, а никогда раньше такого не испытывал: вдруг, буквально секунд за десять мир словно пожух и съёжился, осталось что-то небольшое, мутное, но в основном – темнота. Мрамза тоже никогда раньше не видела, чтобы человек бледнел так стремительно – особенно загорелый взрослый мужчина. Она испуганно вцепилась в его руку, проклиная саму себя.
– Аста, мальчик мой, ты только не убей её! Ну вдруг всё не так, вдруг всё врут – но лучше же, чтобы ты от меня услышал, чем от зубоскалов на набережной?.. – Мрамза причитала, трясла его за плечо, испуганно моргала и всячески пыталась сфокусировать его взгляд на себе, но он стоял молча, глядя куда-то внутрь пространства и пытался наладить взаимоотношения со светом и тьмой перед глазами.
Потом немного наклонил голову, посмотрел на торговку и спокойно спросил:
– Кто – говорит?
– Да все судачат… Почитай, весь район уже в курсе …
* * *
Ну вот и что теперь делать? Увезти её, чтобы слухи не успели задеть? А куда? Слухи так устроены, что мчатся следом – а то ещё и опережают: получится, что всё так и есть, потому и сбежали. Смешно. Но она – она так этого не оставит, пойдёт бороться. С её-то натурой народоволки-правдолюбки. Начнёт искать, кто это придумал. Чтобы разобраться, выволочь за косы на честный бой. В том, что причина в женщине, Астамур не сомневался, да и Асида тоже непременно так подумает.
Но какая, в конце концов, разница, главное ведь – сохранить дитя. Чтобы ничто не нарушило радостного ожидания, а затем и долгожданный приход в мир этого малыша. Ну, или малышки. Астамур вдруг обнаружил, что впервые признался себе: это ведь может быть и не сын. Как в бородатом анекдоте: «А кто тогда?..» Он задумался, произнёс мысленно слово «дооочка», словно попробовал его на ощупь… Да нет, конечно, точно будет сын. Хотя, с другой стороны…
Хотя с любой стороны, главное – чтобы никакие сплетни, слухи, злоба и цинизм не разрушили то, чего они с Асидой так ждали долгих восемь лет. Итак, возвращаемся: ну и что теперь делать—то? Как её уберечь? Как защитить?
* * *
Астамур всегда, всю свою жизнь был старшим. С того самого дня, когда отец совершенно внезапно и нелепо погиб, Аста оказался главой семьи – ответственным за двор, за мать, за младших братьев. Именно его, десятилетнего, дядья учили ставить быка под ярмо, править плуг, отбирать зерно для посева. Не сразу, конечно, всё постепенно, всё по мере сил. Но никто и никогда больше не относился к нему, как к малышу, у которого ещё полная чаша детства впереди – всё успеется, мол, пусть пока понежится, дурака поваляет. Не было такого. Даже Даур, который был всего полутора годами младше, имел в глазах школьных учителей, соседей и дядьёв все права побыть хулиганом, понаделать ошибок, побить баклуши и быть своевременно оттасканным за вихры. Какие его годы, в самом деле? Подрастёт, образумится. Все наладится, все придёт. Но к Астамуру у тех же соседей и учителей счёт был совершенно другой: ты же старший в семье, как же ты мог – не выучить, не вызваться первым, не сделать, не подать пример… Нет, Астамур по природе вовсе не был «со всех сторон положительным», и, если бы судьба сложилась иначе, он, вероятно, прошел бы весь путь Дауровых ошибок. Но рядом всегда была мать, её глаза, яснее всяких слов, её скупая нежность: спасибо, сынок, что я могу на тебя положиться, это так важно…
И он к этому привык: на него всегда можно положиться. Он не строил из себя главного, не командовал братьями, как можно было бы ожидать, он просто усмехался и делал то, что окружающие считали правильным в данный момент. Что уж он на сей счет думал, часто – почти всегда – оставалось на его собственной совести, но упрекнуть его было не в чем. Как ни странно, в результате он не стал ни законопослушным параноиком, постоянно озирающимся в попытках понять, чего ещё от него ждут; ни забитой марионеткой, идущей четко предписанным путём; ни бездушным циником, ни тайным бунтарём… Его спасали врожденная ирония и чувство меры. Ко всему в своей жизни – с самой ранней юности – он относился несколько отстранённо и с доброй усмешкой умудрённого опытом старца. Ну хорошо, хорошо, ладно, – сквозило в его усмешке, – пусть так, сделаю вам, всё будет, не ссориться же, в самом деле, из-за таких пустяков, вот поживите с моё, и однажды вы тоже поймёте.



