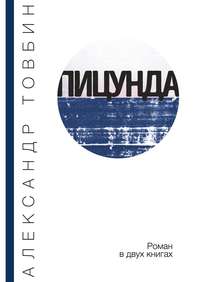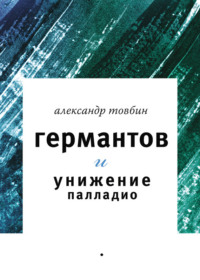Полная версия
Шутка обэриута
Возможно, впрочем, вовсе не прескучный, с обречёнными алебастровыми масками, фасад-визави привлекал меня, когда я, проворачивая рифлёное колёсико меж окулярами бинокля, приближал-удалял, наводя на резкость заплывшие, почти растворённые в пыли глаза масок, или, резко сдвинув колёсико, погружал в таинственные туманы то, что только что хотел рассмотреть, а летучие вспышки просвечиваемых солнцем тополиных пушинок, которые сдувал ветер со старых тополей, наваливавшихся на ограду Владимирского собора; наступала осень, не пушинки, а мокрые побуревшие листья срывал с тополей ветер, превращал в бескрылых обезумевших птиц… – чего я только ни повидал в окне моего детства, зажатый между роялем и рёбристой батареей! Кстати, справа от окна, над роялем, на фотографии в лакированной рамке, был запечатлён триумф матери: рука, взлетевшая над клавиатурой, восторженные лица покойников…
Но! – чересчур увлёкся милыми, хотя никчемными мелочами, с детских лет засевшими в памяти.
Милыми, никчемными… и – ужаливающими.
Отец с матерью обживали неуютные времена, – выкашивал друзей и знакомых большой террор, а они, повинуясь простенькому закону самосохранения, отводили глаза от общей беды; отец, судя по запискам, так ловко цензурировал своё прошлое, что мог показаться предельно искренним: страх пропитал сознание? – грех жаловаться на беспощадность судьбы, с другими бывало хуже, гораздо хуже, но, даже потеряв любимую работу после «дела врачей», когда оставил прикованных к кроватям юных пациентов и вынужденно покинул Крым, отец и этого болезненного эпизода биографии, оценённого им самим как «мелкие неприятности», лишь бегло касался, хотя делился своими воспоминаниями в вегетарианские брежневские годы, ничем всерьёз не угрожавшие ему; к сожалению, тусклыми получились воспоминания, – не найти в них не только драматизма времени, но и личной, внутренней боли: драма всякой, пусть неприметной жизни, – обманутые надежды, – будто б не задела отца…
Скрытность как сверхзадача?
Жизнь, где потери не в счёт, – особый, размагниченный максимализм! Отец ведь был максималистом в жизненных и сугубо медицинских задачах своих, но при человеческих достоинствах и профессиональных талантах, – повторю: он был великолепным хирургом-ортопедом, делал сложнейшие операции на сгнивавших детских суставах, обожал маленьких пациентов своих, всех помнил по именам, следил за их послеоперационными судьбами! – не обладал литературным даром; правда, трезво себя оценивал…
Я примазался к компьютеризованному большинству кофейни, открыл ноутбук, где хранились отцовские мемуары; вот, пожалуйста, страница 96: «Подходя самокритично к этим запискам с точки зрения их литературной значимости, я оцениваю их отрицательно. Они носят хроникальный, а подчас сумбурный характер, в них по существу представлена лишь череда событий и происшествий, составивших мою жизнь, но неполно и недостаточно выпукло изображён её богатый фон и люди, которые, так или иначе, влияли на моё поведение и поступки. Словом, запискам, чувствую, не хватает именно того, что могло бы сообщить им качества подлинно литературного произведения».
«Занимает меня также вопрос о том, не выгляжу ли я в своих записках этаким паинькой без недостатков, а если и выгляжу паинькой, то не грех ли это простительный, объективно свойственный мемуаристам»?
«Свойственный»? – ну да, отец прав, всякий мемуарист облизывает себя, с этим не поспоришь.
И ещё фраза из психологически загадочных, – стоило ли при столь безнадёжном настрое ввязываться? – самоуничижительных признаний:
«Заранее задумываясь над тем, чем станут мои записки, задаюсь вопросом – нельзя ли будет оправдать их появление лишь мороком графомании, подспудной тягой к бесплодному, пустому сочинительству…»
Да, рукопись без намёка на интригу ли, приключение, в естественном самотёке лет приплывшая из ящика отцовского письменного стола ко мне, законному наследнику, была так себе: «правильный», тускловатый язык, линейность повествования, отсутствие оригинальных идей, чувств, питающих спонтанную прозу, и – минимум воображения; не поспоришь, и не пахнет литературным произведением. Но нет и бесплодного, пустого сочинительства. Хотя бы потому нет, что страницы мемуаров волнующе сопрягались со звуковыми иллюстрациями и примечаниями к ушедшему времени, которое отец пытался сберечь по-своему: без курсивов и изъятий, «всё», безотносительно к «интересности», но – с важной добавкой; да, было удивительное к двум толстым папкам машинописи аудио-приложение на крупных, презабавно контрастирующих ныне с миниатюрным «хайтеком» плексигласовых бобинах с красноватой плёнкой; бобины аккуратист-отец пронумеровал… в совокупности с внушительными бобинами и сами скучноватые мемуары, при опосредованной связи с записями на плёнках, превращались в уникальное послание, хотя отец не уточнял, на какого будущего читателя-слушателя с исследовательской жилкой он мог бы рассчитывать, запуская в гостях у умнейшего друга своего, Бердникова, которого боготворил, громоздкий неподъёмный магнитофон «Днепр». На ветхих, склеенных ацетоном плёнках жили голоса умерших, – отрешённые ли, страстные, до хрипоты, споры за круглым столом в Толстовском доме, свидетелем которых и я зачастую оказывался, отец брал меня с собой в гости в воспитательно-образовательных целях, – я, далеко не всё из сказанного там понимал, но «впитывал услышанное, как губка»; крутились бобины, голоса превращались в контрапунктный комментарий к бумажным мемуарам отца…
Как машинописным, (бумажным), в пропылённых папках, и звуковым, на доисторических бобинах, богатством распорядиться?
Ещё раз: идущий навстречу отец, вручение клоуном карточки-приглашения, – сиюминутные, но многозначительно совпавшие факты; не взяться ли за расшифровку посланий Случая?
И не для этого ли я в Петербург вернулся?
Поразительная предусмотрительность!
Ведь я, – пропылённые папки и бобины сейчас для красного словца упомянуты, – не иначе как по подсказке случая, опередившей сам случай, исподволь готовился к расшифровке, отсканировал машинопись; сотни страниц из отцовских папок (без всякой пыли) уже хранились в ноутбуке с диагональю в сколько-то предписанных стандартами дюймов, и, само собой, с ёмкой и быстрой памятью…
Мало того.
Я давно прослушал начало плёнки на бобине с римской цифрой 1; застольные говорения из середины минувшего века, доносившиеся сквозь потусторонний гул, шумы и помехи, меня за живое тогда не взяли, однако я перевёл содержимое всех бобин в звуковой файл, приложение так приложение, – авось, – возгордился, исполнив элементарный сыновний долг, – когда-нибудь любопытство взыграет, чему-то дельному послужит, актуально зазвучав, этот ветхозаветный хлам.
Сканировал бумажные записки, оцифровывал впрок бобины, но умудрился о заготовках своих забыть?
И, пожалуйста: настало «когда-нибудь».
Настало, действительно настало, – не погнаться ли за смыслами почившей эпохи?
К столику моему, точно вызванное такси, с едким выхлопным дымком подкатила машина времени, я залез в удобную, с кнопочным пультом кабину и, будто бы включая радио-музыку, открыл звуковой файл с голосами мертвецов, выхватил наугад обрывок разговора, но, опомнившись, приглушил громкость, чтобы характерные тембры и интонации далёких лет, к которым боязно прикоснуться слухом, не вклинились диссонансом в благопристойный гул кофейни.
Да, ещё раз, для самоутверждения: поначалу несерьёзно отнёсся к голосам мертвецов, буднично и, как выясняется, впрок, озвучивавших своё горькое время… Но – сберёг ведь, сберёг…
.
Так, голос Савинера, – незабвенная сага о весеннем ледовом хаосе в устьях сибирских рек; дальше-то, после нескольких оборотов бобины, что?
Опять Савинер:
– «Павел, просвети: почему сердце бьётся в груди, не в голове? Не уместилось меж мозговыми полушариями? Упущение Создателя»?
– «Сердце в груди бьётся, как птица», – напевное легкомыслие; отец?
«Почему в груди, не в голове»? – зануда-Савинер отжимает серьёзность из легкомыслия.
Пауза и… – ответ Бердникова:
– «Высокий умысел».
– «Чей»?
– «Создателя».
– «Цель»?
– «Продуктивная дихотомия».
……………………………………………………
Далёкий гул, потрескивания.
И… ого! – прошелестевшая тишина обновила тему:
«У зодчих и ваятелей античности, на пластические совершенства коей молимся мы теперь, был отвратительный вкус: вульгарно яркие храмы, скульптуры… – Илюша, тебя не оскорбил бы в пух и прах размалёванный Парфенон, доживи храм в красе первозданной своей безвкусицы до наших дней»? Да, голос узнаваемый, – Бердников! Он, помню, с серьёзнейшей миной, наморщив лоб, подшучивал надо мной, тогда – студентом, как пристало неофитам, пристрастным и догматичным; после провокационной тирады Бердникова относительно петушиной яркости Парфенона раздаётся смех, далёкий-далёкий, но – внятный…
Да, смеётся отец! – суховатый, чуть дребезжащий смех, – глянул на мою растерянную физиономию и рассмеялся?
В паузе звякает о чашку ложечка.
Тогда или сейчас?
Мороз по коже.
Внимая конкретной музыке кафетерия, испытал нежную благодарность к отцу за чудную посылку из загробного мира, собранную из звуков минувшего, как если бы только что её получил: да, мемуары, – так себе, не суждено было отцу изобрести литературный порох, но «звуковое приложение» меняло дело…
Каким же мудрым и прозорливым, оказывается, был отец! И почему так запоздала благодарность моя, почему при жизни его я не находил тёплых слов? – я вообще с опозданием испытывал ответные чувства: не чувства, как полагалось бы по негласным нормам «настоящего» писательства, стимулировали и одушевляли, по мере сочинения, текст, а напротив, сам текст, если точнее, предощущения его, неслышная, загодя изводящая какофония, сбивчиво-неуловимые ритмы и рваная, лишь мечтающая о гармонии композиция, возникнув из ничего, из таинственного внутреннего стимула, затем, после сложения формы, могли пробуждать живые чувства во мне.
Чувства вины, стыда…
Именно так, – текст, ещё не сложившийся, опережал чувства, которые должны были бы стать его побудителями…
Я жил – постфактум?
Да, принципиальный (первородный) изъян… вот если бы сердце переместить в голову, связать с мозгом…
Из родичей своих близок я был только с дедом, он потакал причудам и капризам моим, в коих усматривал «увлечения», – я, к примеру, из камушков, щепочек, выброшенных на берег морем, и пляжных ракушек мог часами, съедавшими строго установленное матерью режимное время обедов и полдников, лепить из мокрого песка невиданные островерхие дворцы, обречённые на быстрое разрушение, а дед не торопил, не смотрел на часы, – верил в заведомую полезность всех проб и ошибок моих для воспитания чувств, а уж как нахваливал рисовальные каракули… Дед впервые меня к морю привёз, с тех пор сохранилось воспоминание, набухшее солнцем, блеском, кропившее солёными брызгами; из приспущенного окна несло паровозной гарью, за тенью вагонов куда-то назад убегали крыши покосившихся изб с пятнами мха, корявые яблоньки, пугала на огородах, колодцы, шесты со скворечниками; печальный бесконечный пейзаж… и вдруг, после чёрной прослойки ночи, – море!
Да, деда, подарившего море мне, чуткого и заботливого, не могу забыть; я рос как бы помимо родителей… Натерпелся материнских, сопровождаемых назидательными вздохами, укоров и понуканий, но почему с отцом, не «воспитывавшем» меня, не… – отцу-стоику, инстинктивно чуравшемуся эффектных слов, поз, делавшему тихо целительное дело своё и на войне, под бомбами, за операционным столом, не хватало яркости? – он и умер буднично и тихо, как жил.
Увидел лысину, съехавшую с подголовника кресла, опустевшие глаза.
Я не сразу понял, что отца уже нет.
Мерцал чёрно-белый телевизор: Сахаров, сгорбившись, под депутатские улюлюканья покидал трибуну…
А вот Бердников, – не припомню повода, – без поэтического «выражения», глухо и равномерно, как бы нехотя, отбывая повинность, зачитывает стихи своих непутёвых гениальных друзей… нет-нет, вслушался я в звукозапись, ошибочка! – в тот вечер Бердников с нарочитой серьёзностью читает за чаем не Введенского, не Хармса, а Кузмина:
Зовут красотку Атен а ис,И так бровей залом высокнад глазом, что посажен наискосок.Задев за пуговицу пальчик,недооткрыв любви магнит,пред ней зарозмаринил мальчики спит.Смех, на сей раз – совместный, но с индивидуальными тембрами: смеются отец, Савинер.
Их смех… – щекочет ноздри?
Смех из бездн Вселенной опахивает тем временем; в машине времени пахнет ведь не бензином…
Чтобы унять волнение, – в Интернет-новости:
– Украинская артиллерия обстреливает центр Донецка, снаряд попал в троллейбусную остановку, есть жертвы…
– В Сирии, у христианской школы в Алеппо, взорван заминированный джип, много убитых, раненых.
– Президент Обама провозгласил политику сдерживания России, несущей цивилизованному человечеству большие угрозы, чем лихорадка Эбола и террористическая группировка Игил. Перед тем, как покинуть Белый дом, Барак Обама порвёт в клочья нефтяную экономику России, победит африканскую лихорадку, исламский терроризм…
– Исполком Республиканской партии США не подпустит мультимиллиардера и шоумена к трону президента, заказан компромат… – Если не одёрнуть зарвавшегося плейбоя, он загасит факел Свободы, – на трибуне сенатор Маккейн. В свою очередь, госсекретарь Хилари Клинтон, кандидат от Демократов, обвиняет Трампа в некомпетентности и продажности, Хилари докажет под присягой, что Трамп – марионетка Кремля…
– Агентство Блумберг сообщает об ускорении бегства капиталов из России, в частности, о продаже петербургского филиала «Раффайзен Банка».
– Санкт-Петербург празднует столетие Толстовского дома; промельком, – реклама «Петербургской недвижимости».
– Пулковской обсерваторией зафиксирована мощная вспышка на солнце. Чутким к атмосферным аномалиям и колебаниям магнитного поля, «метеопатам», рекомендуются лекарства, нормализующие сосудистую систему…
Не «метеопат» ли я, не по милости ли солнечной вспышки кружилась голова, терялась ориентация?
Но… – сосудистой системе не потребовались пилюли? – эскалаторы исправно ползли к расчерченному на квадратики небу, ленточные галереи парили.
А что на… – 24. ru?
– Миланскими учёными обнаружены два родных сына Леонардо да Винчи, который умер в 1521 году, не оставив детей. Миланские учёные предупреждают также о выпрямлении Пизанской башни, отклонение от вертикали сократилось за год на четыре сантиметра, туристические компании бьют тревогу…
Что ещё любопытного?
– Отзывы об электробритвах.
– Отзывы о GPS-навигаторах.
– Беременные танцуют во время схваток (видео).
И – кроваво-красными буквами:
– Новая раса зверолюдей в игре! Играйте за прайденов, благородных хищников сарнаута!
Was ist das?
И тут увидел я Даньку Головчинера, – вот и знакомое лицо, свой, до боли свой среди чужих, молодых: жив, в полном порядке! Он примыкал к нашей компании с начала семидесятых, – как я мог про него забыть? Головчинер, машинально поводя влево-вправо крючконосой головкой с приклеенными седоватыми волосами, чёрными глазками и свёрнутыми в трубочку губками, медленно поднимался по ступенькам в атриум из цокольного этажа «Владимирского пассажа», где располагался престижный, если верить рекламе, – славящийся деликатесами универсам «Лэнд»; да, я вовсе не одинок на чужом пиру: жив курилка, но мне-то вовсе не хотелось встречаться и лобызаться с Данькой, – с год назад мы с ним пересеклись в крематории, на прощании с Юрой Германтовым, умершим – или погибшим? – в Венеции при загадочных обстоятельствах, Данька рассказывал, как увидел в свете фонаря Юру распростёртым на плитах у аркады Новых Прокураций; после траурной церемонии, пока брели к автобусу, изводил меня грозными политическими пророчествами, Россию, само собой, ждали крах, обнищание, распад на враждующие удельные княжества с ядерными арсеналами, однако и контрагентам нашим ничего не светило: согласно данькиной легенде Евросоюз под управлением безмозглых бесполых брюссельских комиссаров приближал свою погибель в баррикадных боях националистов-аборигенов с исламистами-джихадистами, а у всесильных Штатов, где безбедно печатали триллионами доллары и манипулировали вращением земного шара, хаотизируя страны и континенты, поехала от мирового господства крыша, не за горами был судный день, когда Штаты, щедро перекредитовав своё благополучие, провалятся во вселенскую долговую яму, нам же останется прозябать меж обломками западной цивилизации и Китаем; в автобусе Данька, добивая меня, шпарил наизусть длиннющую эклогу Бродского…
Да, Данька – уникум, неунывающий пережиток-уникум!
Тёплая волна накатила – из «нашего времени», гнусненького, но «нашего».
И разве не прелюбопытная у Даньки судьба? – рождённые ползать злоязычные существа шипели, мол, моча астрофизику ударила в голову и сей уринологический удар, – единственная мотивировка кульбита, исполненного учёным на глазах потрясённой публики.
«Даниил Бенедиктович Головчинер, астрофизик, доктор физико-математических наук» – каллиграфически было выписано на визитках, которыми, галантно склонив яйцевидную головку, учёный муж щедро одаривал при знакомствах. И вдруг астрофизик с мировым именем, владевший строгим языком формул, к изумлению яйцеголовых коллег-теоретиков уволился из «Физтеха», переквалифицировался в квартирного политолога и стиховеда с недержанием речи; «стиховедом-подпольщиком» окрестил его Шанский, – итак, бесстрашный Головчинер пустил под откос научную карьеру; презрев «удушливый советский тоталитаризм», «официоз безвременья» и прочая, прочая, фанатично высчитывал ударные и безударные рифмы гонимого Бродского.
Но, – при уважении к зову судьбы, круто поменявшему физико-математическую Данькину участь, – чур, меня, чур.
Порадовавшись тёплой волне, накатившей из прошлого, слегка сдвинулся за пилон, чтобы утомительно-общительный Данька, не дай бог, не заметил меня, но он, помахивая фирменным пакетом от «Лэнда», свернул к секции сумок и чемоданов.
Выпрямляется Пизанская башня.
Под нажимом политкорректности?
Новая нормальность?
Ну и ну…
Истекал обеденный перерыв, офисный планктон покидал кофейню, а я всё ещё пытался привести мысли свои в порядок.
Снова кольнуло: я повторял отца не только шаркающей походкой, но и манией сочинительства?
Если что-то и было написано мне на роду, то написано было столь неразборчивым почерком, что я, как ни старался, не смог расшифровать судьбоносное послание. Однако наличие послания свыше не вызывало сомнений, придавало дням смысл.
И этот неясный смысл, будучи невостребованным, убывал, как убывало и отпущенное мне время… Время, кстати, – более чем удачное: не опалила, хотя близко прогремела, война, меня неплохо выучили в школе и институте, выпустили вроде бы на накатанную дорогу, – полтора месяца взаперти, в психбольнице на Пряжке, где пригрел меня Душский и где сочинял я первый роман, не в счёт, – итак, не высылали за 101-й километр, не цензурировали, юность, одарившая исключительными друзьями, совпала с хрущёвской оттепелью, когда расширялись горизонты, развязывались языки, укорачивались юбки… – спасибо судьбе! Но, быть может, беда моя была в том, что я, не повстречав серьёзного сопротивления, не смог раскрыться… по причине послабления лет все «испытания», выпадавшие мне, куда с большим основанием, чем реальные отцовские беды, стоило бы квалифицировать как «мелкие неприятности»? Порой, в часы бессонницы, я укорял себя в том, что жизнь свою растранжирил по мелочам; если бессонница затягивалась, причислял себя к неудачникам, нытикам, был готов перечеркнуть себя, как плохую фразу.
Кроме того, к безутешным самооценкам подвёрстывались мрачноватые предпосылки: неудачниками, – по их признаниям, – были мои родители; неудачница-пианистка, неудачник-ортопед-мемуарист наделили меня ущербными генами? Во всяком случае, если высокие свершения и маячили ещё впереди, то реализация их, желанных свершений, с учётом критического возраста моего, явно затягивалась.
Личная жизнь моя превратилась давно в руину; роман с Нелли был бурным, но скоротечным; не сошлись характерами? – «Ты – болезненное исключение из рода человеческого», – смеялась Нелли, быстро раскусив меня; ей нельзя было отказать в наблюдательности, разяще-зоркой: «сухой и холодный, ты опаляешь внезапными вспышками страсти, фантазии, остроумия, но после кратких возгораний опрокидываешься в сумрачный свой характер, в сумрак бесценного своего сознания, и я остаюсь одна под тучами, на ветру». Нелли, в противовес мне, квёлому мечтателю-созерцателю, особа витальная, темпераментная и сверхактивная, – как утомляла её активность! – торопилась жить и спешила чувствовать; моя мать, не питавшая к Нелли симпатий, изрекла однажды, поправляя компресс на лбу: «подмётки на бегу режет», – после меня, «сухого и холодного», сменив при подъёме по социальной лестнице нескольких, один успешнее другого, мужей, Нелли, руля «Лексусом», не справилась с управлением и погибла в автокатастрофе в Америке вместе с самым успешным мужем своим, знаменитым органистом и дирижёром Готбергом: супруги возвращались с триумфального концерта в вашингтонском Кеннеди-центре. Занозой в мозгу засела марка престижной японской машины? – перед отбытием в заокеанский рай Нелли приходила за подписью на справке для ОВИРа и, осмотревшись в скудной моей обители, пожурив за «безбытность», за «внутреннюю бездомность», (её отличала меткость суждений) призналась, что мечтает о «Лексусе», роскошном и мощном: гибельную автомечту, idea fix premium, ей предусмотрительно навязала изощрённая в бытийном сюжетосложении судьба, – не по иронии ли судьбы мёртвыми узлами слова и поступки связаны-перевязаны? Опереточно-демонический, с бетховенской гривкой, Гарри Готберг, грозно нависавший над запуганным оркестром, учился со мной в одной школе, да, в 308 школе, на Бородинской улице, да, мир праху… После Нелли были другие женщины, которых я любил и которые любили меня, всё чаще я извлекал из картотеки памяти их прекрасные лица, но выяснялось в ночных разборах полётов, что любовь делала нас несчастными, а воспоминания лишь подпитывали ноющую боль в сердце. По мере того, как чувства растворялись в кислоте прошлого, я, – дивясь разнообразию и вздорности женских натур, очаровывавших меня, – ощущал, однако, что сам был виновен в недоразумениях и ссорах, разрывах.
И, естественно, редел круг общения.
Почти одновременно ушли институтские друзья: художник Рохлин, поэт Алексеев; я коротал теперь в беседах с ними часы бессонницы.
Да, ушедшие становились спутниками моего одиночества.
Ушли один за другим – и все нелепо, – друзья школьных лет: Бызов, Шанский, Бухтин-Гаковский, их никто не мог заменить. Не стало и Германтова, – присутствие в жизни моей Германтова и искусствоведческих фантасмагорий его, было, как почувствовал я после таинственного ухода Юры в венецианскую ночь, одной из последних подпорок; мой мир обезлюдел, а когда угасла Глаша, верная подруга, собака-долгожительница, – в бескорыстной любви она меня поднимала на пьедестал, очень за меня, непутёвого, тревожилась, сокрушёнными вздохами оценивая мои поведенческие оплошности, – помню, как ощутил в груди холодную пустоту; узы, связывавшие с теплом быта, были разорваны, я, опустошённый потерями, остался один на один с собой, а ведь истекающая жизнь, увиденная усталым, но въедливым ещё взглядом, предстаёт как цепь неудач.
Ко всему, деградировала зодческая моя карьера, хотя я, поверьте, немалые подавал надежды; не вдаваясь в подробности, скажу только, причём, не ради оправдания своих неудач, что под натиском «прогресса» деградировало и само архитектурное проектирование – многосложная и тонкая профессия, от века призванная синтезировать в пространственных формах искусство и инженерию, обезличивалась: архитектурная образность оскудевала, девальвировалась, доли «творческих порывов» в коллективной рутине скукоживались, замыслы нивелировались. В угоду всепобеждающей «простоте», – вытравлялось нечто неуловимое, но волнующее, изредка превращавшее архитектуру в искусство; а ещё всевластие заказчиков, вздорных, удручающе-примитивных. Терпение моё иссякало, после болезненных колебаний я, наконец, расстался с остатками иллюзий и, – пересидев в «Ленпроекте» формальный срок на десяток лет, – вышел на пенсию.
Что называется, – «вне игры»
Свобода?
Гнёт?
Муторное, скажу, состояние: никаких геройств, конфликтов, конфузов, иссякли земные страсти, – только пассивная строптивость, но я и за неё, получается, был наказан, лишился привычных подпорок, привязок к извечному порядку вещей; анонимные силы понудили зависнуть в невесомости, в нелепой позе? – освобождённый от обязательств, выброшенный из хронологии; дни были неотличимы.