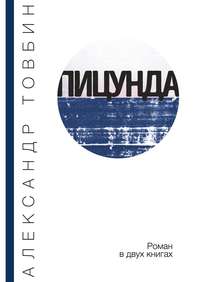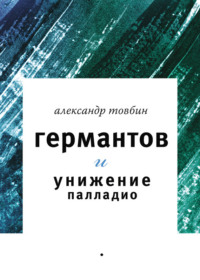Полная версия
Шутка обэриута
Я, один на белом свете, помню её…
И всякий раз фантомная боль пронзает, хотя понять не могу, чем и почему лик исчезнувшей керосинщицы меня ранит, не могу понять, и где у меня болит.
Обескураженный видениями, естественно сопрягавшимися с пестротой площади, замер; куда податься?
Осмотрелся, – в левом крыле дома с буквенной вязью «Владимирского пассажа» и универсама «Лэнд», дома, «главного» на площади, отторгавшего потуги на доминирование соседнего мутанта-нувориша… Славно, сохранился «главный» дом! Не надеялись спасти: в конце восьмидесятых, необитаемый, с выбитыми стёклами, разваливался, но подвели под старые фундаменты сваи, стянули стальными, на болтах, пластинами трещины; благодаря настырности торгового капитала, просчитавшего свою выгоду, сохранили, да ещё крышу (угол наклона) приподняли, разместив в мансарде гостиничные номера, – отнятый у разрухи, внушительно нарастил мускулатуру; так вот, так вот, в левом крыле спасённого дома, мощно и, признаем, самоуверенно возвысившегося над площадью суровыми щипцами-фронтонами северного модерна напротив барочного, виновато-съёжившегося, признав пространственную власть визави, собора, была булочная, в ней покупал я тёплые слойки, сайки, халы, батоны с изюмом, медовые пряники, сласти: мармелад и пастилу, присыпанные сахарной пудрой брусочки, – белые, розовые…
И что сейчас?
Преемственность соблюдена: в бывшей булочной, – британская кондитерская, British Bakery, с литографиями аббатств и замшелых замков, малиновыми бархатными диванами с валиками и высокими, под литографии, спинками, с мозаикой пирожных в пузыре шикарно изогнутого прилавка-витрины…
А в правом крыле массивного дома аптеку с монументальным кассовым бастионом, старомодной стойкой красного дерева, окантованной зеленоватым матовым стеклом с полукруглым окошком, и сплошь собранными из выдвижных ящичков шкафами вдоль стен, после евроремонта заменил голый, – глазу не за что зацепиться, отклеился лишь уголок рекламы Аэрофлота, – вестибюль гостиницы «Достоевский», да-да, Dostoevski; проживал и умирал классик поблизости, а согбенно-скорбный памятник ему – в двух шагах; окаменевший понурый классик, у метро, в истоке Большой Московской, в безутешной задумчивости присел среди снующих туда-сюда, не замечая своего создателя, персонажей, – благодушно оценивал я удачные для маркетинга имя и локацию литературной гостиницы; к тротуару причаливал слоноподобный автобус с интуристами…
Далёкий от восточного мистицизма, не мог сосредоточиться, не мог медитировать, глядя в точку, – обуреваемый смешанными чувствами, мало-помалу забывал о тревогах своих, доверчиво окунался в волны городских впечатлений, легкомысленных отвлечений, наитий, воспоминаний, которые не омрачали настроение моё. Хорошо-то как! – хорошо, что вернулся, погода – отменная. Упиваясь нечаянной радостью, вертел головой; солнце расплывалось по тонированному стеклянному лбу автобуса тёплым масляным бликом.
И – укол:
Так зачем, собственно, я вернулся? – не затем же, чтобы сладко зажмуриваться на Владимирской площади.
Практическая цель моего возвращения, – столь поспешного возвращения! – для меня, как ни странно, оставалась загадкой. С неделю назад, так же, как сейчас, зажмуриваясь и с удивлённой благодарностью открывая затем глаза, я попивал красное винцо в Сиене, на Пьяцце дель Кампо, любовался из-под зонта кафе радужной короной над головкой сторожевой башни палаццо Пубблико; синяя тень башни рассекала надвое затопленную розоватым маревом площадь-раковину… и чего не хватало мне для полного счастья? Случился, однако, обрыв созерцательной безмятежности, – сердце, сбившись с ритма, сильней обычного толкнулось в груди, внутренний голос промолвил настойчиво: тебе надо вернуться в Петербург, и – поскорее.
Предупредительно-тревожный сигнал, лишь заставлявший насторожиться? Интуитивно-смутное оповещение о чём-то, что стоило принять во внимание, посчитать руководством к действию?
А если тревога – ложная?
Хотя я планировал вернуться через месяц, а пока намеревался посетить Зальцбург и Мюнхен, я, покорный сердечному толчку, прокомментированному внутренним голосом, который вывел из созерцательной сиенской нирваны, не мешкая, собрал дорожную сумку и – вернулся, как если бы в Петербурге меня кто-то ждал.
Вопрос ребром: почему же, почему я вернулся?
Почему сорвался, как угорелый, словно красоты Пьяццы дель Кампо меня обратили в бегство, и… – состарившись, впал в детство, сделался «почемучкой»? – так вот, я здесь, в своём гнезде, а почему, зачем вернулся – не понял: разморённый разум дремал, а растревоженное сердце разве не могло бы и на том успокоиться, что мне, избалованному в последние годы итальянским солнцем, и сейчас, на солнечной Владимирской площади, легко и хорошо на душе?
Легко, хорошо…
Хорошо-то хорошо, но почему горчит во рту?
И хорошо всё же или – не хорошо?
В том-то и фокус: союз «или» противопоставляет, а мне и хорошо, и – не хорошо.
Горечь, условный слюнный рефлекс, яд сожалений и опасений?
И не потому ли горечь не проглотить, что вопреки статике камней, поток перемен, – скажу яснее: поток времени, невидимый, но болезненно ощущаемый, мешает зафиксировать statu you? Вслед за щербатой ступенькой, о которую я спотыкался тысячу раз, исчезали незримые связи с…
И если сверлили только что мистические взгляды мнительный мой затылок, то не потому ли сверлили, что заподозрили чужака, – для моей площади я стал инородным телом?
Состарился, утратил любовь пространства?
И – способность додумывать хотя бы простые мысли?
Снова повертел головой: нет, хуже, – ни свежеокрашенная колокольня с небесными зияниями, ни хмурые охранители мои, многоглазые дома, залепленные безвкусными вывесками, рекламами, меня уже, показалось, не замечали, как если бы связи со мной утратили, как если бы меня вообще не существовало на белом свете… что могло ждать в пространстве, которому я не нужен, – дожитие пустых дней моих?
Вернулся, вернулся, вернулся, – заладил, отгоняя назойливые вопросы и путаные сомнения, внутренний голос.
Однако – опять: пусть и проигнорированный родимым окружением, ради каких подвигов, судьбоносных встреч, на худой конец, – неотложных дел, я, чёрт побери, вернулся? Увы, ничего, кроме приближавшегося конца, не ждало меня…
Суетные, как муравьи, горожане, – включая тех, чьё поведение корректировалось плоскими смартфончиками-айфончиками, приложенными к ушам, – знали, куда спешат, знали, что им надлежит сделать, с кем встретиться, где развлечься, а я…
Поспешно вернулся, чтобы до меня, обосновавшегося в центре Вселенной, то есть именно здесь, на Владимирской площади, дошло, наконец, что Вселенная, не заметив потери, вскоре отлично без меня обойдётся?
Вскоре? – опережая естественное течение времени, репетировал своё отсутствие в будущем, до которого, как до смерти, четыре шага всего; бесхитростные мыслишки маниакально закольцовывались: по кругу, по кругу…
Так был я здесь и сейчас, никому не нужный, или отсутствовал? – впору себя ущипнуть. И… – реален ли этот овощной и фруктовый развал: фигурные помидоры, глянцевые, трёх цветов, перцы, фиолетовые баклажаны, чернильно-чёрный, зелёный и густо-розовый виноград, персики с синяками на багровых щёчках, бледные жёлтые груши, – красотища! Но всё-таки – верить ли, не верить глазам? Натуральная плодовая выкладка или коллаж из муляжей, пригодных только для натюрмортов?
Итак: был я или – отсутствовал?
Ну да, – вспомнил, – быть или не быть?
Слов нет, актуальный вопрос на старости лет.
И если нет вокруг никого, кто мог меня знать, мог засвидетельствовать моё присутствие в этом мире, то и не было меня, не было…
Ещё не отрезвев от солнечного коктейля видений, вертел головой, хотя – всё более раздражённо: обидная квазидостоверность, всё – знакомое до горьковато-умильных слёз, и – отчуждённое, равнодушное, поникшее, квёлое.
Так, вернулся.
Вывески поменялись, энергия окружения иссякла…
Вдохнул, как если бы брал последнюю пробу; изменился состав воздуха?
Снова глубоко вдохнул, снова проглотил горечь; дышал чужим временем, – возможно такое?
И мало того, что я, прошагавший долгую жизнь свою не в ногу с колоннами современников, был один на один с площадью, настороженно-отчуждённой, был один на один с Петербургом, с деловитой гордостью переживавшим туристический бум, а обо мне позабывшим; пожалуй, сейчас и здесь, в персональном пространстве своём, я пугающую двойственность уловил, да-да, я был, несомненно, был здесь и – здесь же – отсутствовал, что-то новенькое, одновременно быть и не быть, поразительно! – всё узнаваемо, но, и, правда, ни одного узнаваемого лица, пусть постаревшего, я не смог бы выудить в равнодушном броуновском движении. А когда-то на площади, у булочной ли, аптеки, керосиновой лавки, мне адресовались кивки, улыбки, приветливо-небрежные взмахи рук.
Ну почему же ни одного?! – за витражом британской кондитерской увидел популярного актёра соседнего театра «Ленсовета», на сей раз – в роли экзотичного, не от мира сего, футбольного болельщика с сине-белым шарфом «Зенита», повязанным небрежным узлом на шее, – кумира спортивных телепередач, где эксплуатировалось амплуа преданного клубу чудака-юмориста; в кондитерской, пожалуй, он был ещё и в образе потрёпанного страстями, нервического героя-любовника почтенных лет, с всклокоченной седоватой шевелюрой, дряблыми от макияжа щеками и внушительным, как у каменного топора, профилем, – актёр-болельщик, сочетая в богемно-вальяжном облике озабоченность и расслабленность, восседал на малиновом диване, нервно нажимал кнопки мобильника, умудряясь при этом лениво помешивать кофе.
Уют, покой; плафоны изливали медовый свет…
Но! – к актёру подбежала яркая девица, склонилась к уху… я не знал, чем бы себя занять…
Тем временем из чрева автобуса, из дверцы в лакированном синем боку, аккуратным ручейком потекли в вестибюль гостиницы «Достоевский» одинаковые американские пенсионеры, а я, готовый «от нечего делать» вновь погрузиться в смешанные мысли-чувства свои, но – за чашечкой кофе, ибо наглядный пример актёра-гедониста не мог не быть заразителен, – ощутил, как недавно в Сиене, толчок в груди; повиновавшись сердечному толчку, чудесно опознав его направление, шагнул в просторный, с отблесками плоских настенных витрин, тамбур-антре «Владимирского пассажа».
И – увидел отца, идущего мне навстречу.
Разорвался круг мыслей?
Умопомрачение?
Чуть опущенная голова, шаркающая походка… и опомниться не успел: фигуру отца по вертикали, идеально ровно, как бритвой по линейке, разрезала на две симметричные половинки щель, расширявшаяся влево и вправо, – автоматически разошлись полотна стеклянных дверей, я понял, что передо мною был не отец, а моё шагавшее навстречу отражение в зеркальном стекле; постарев, я стал пугающе похож на отца.
Так я это был или – не я?
Довесок замутнённого смысла к солнечным радостям…
Ошеломлённый виртуальной встречей с отцом, точнее – с двойником отца, невольно мной с пугающей достоверностью воплощённым, я замер в многоэтажном атриуме, а ко мне, как к лёгкой добыче, кинулся клоун в ядовито-зелёном мешковатом пиджаке, широких и коротких чёрно-белых клетчатых брючках, апельсиновых, карикатурно больших узконосых щиблетах, и, как водится у клоунов-ковёрных, в парике, с рыжими паклевидными космами и прикреплённым на резинке, обнявшей рыжий затылок, лаково-красным носом-картошкой, – подскочив, с ловкостью ковёрного поскользнувшись, словно на льду, на зашлифованных до блеска мраморных плитах, клоун устоял на разъезжавшихся ногах, скорчил рожу, дурашливо поклонился и вручил мне три карточки, отпечатанные на мелованном картоне.
Опять поклонившись, клоун надул свекольные щёки и выпустил на волю голубой воздушный шар, который до этого болтался на длинной нитке, привязанной к пуговице пиджака; шар взмыл к стеклянному небу, прибился к одному из заглядывавших в атриум мансардных окон гостиницы «Достоевский».
На карточке, предлагавшей судить всемогущего небесного анонима по делам его, была оттиснута фраза-слоган: «Случай – орудие Провидения»; внизу, в правом уголке, петитом, – электронный адрес оккультной службы; пресс-службы Провидения?
По сути, – адрес Провидения?
Маркетинг на недосягаемой высоте! – на запрос отвечу мейлом в небесную канцелярию, за справку ли, комментарий отблагодарю лайком.
Так, шутки в сторону, – на второй карточке, с виньетками в духе Ар-Нуво, – приглашение на столетний юбилей Толстовского дома, рождённого, – так и написано, «рождённого», – в 1912 году; на обороте карточки, – историческая справка. Что обещают на празднике-юбилее? «Костюмированное представление с аттракционом «Время, назад»! спродюсированное холдингом «Зазеркалье», разыграют актёры петербургских театров, и – в полном составе, – труппа «Лицедеи».
Как же я, придирчиво озиравший Владимирскую площадь, подбирая для неё, «от нечего делать», символические опоры, впал в «созидательное безделье» и забыл о Толстовском доме?
Непростительная забывчивость! – это ещё одна незримая и символическая, спрятанная за слоем фасадов, опора Владимирской площади и, думаю, всего Петербурга.
Да, – глянул на карточку с виньетками, – столетний юбилей Толстовского дома; ну да, магия круглых дат…
Но позвольте, господа зазеркальные продюсеры, запускающие, когда заблагорассудится, время назад, – посмотрел вслед отбегавшему клоуну, – какой нынче год? – с 1912 года минуло, если я не сошёл с ума, больше всё-таки, чем сто лет…
Рябило в глазах от флакончиков, баночек, трубочек, кулёчков, коробочек, разноцветных шнурочков, ленточек, – разбегались по ограждениям галерей рекламы, торопившие расфасованные соблазны, оптом ли, в розницу раскупить, поднимались, опускались эскалаторы с пёстрыми фигурками…
Спазм?
Зашатался, – заколыхались алые, синие, жёлтые полотнища с брендами потребительского рая, но, слава богу, устоял на ногах.
На третьей карточке, строгой и деловой, фирма «Петербургская недвижимость» расхваливала конъюнктуру рынка, рекомендовала, пока цены падают из-за кризиса, не зевать и обзаводиться квартирами в доме, празднующем столетие…
Ну да, юбилей – двигатель торговли; подробности на сайте…
Вот оно, попечительское торжество Случая: вернулся, чтобы повстречаться с отцом, чтобы…
И заодно, – выгодно прикупить квартиру?
Отец, идущий навстречу, Толстовский дом-юбиляр, проспавший собственный юбилей, но очнувшийся, дабы закатить-таки дворовый пир на весь мир с невиданным аттракционом «Время, назад»! и… – благодаря явлению из небытия отца и сугубо-информативному, хотя театрализованному, подношению клоуна, моё личное прошлое, нудное и тусклое, как казалось, хаотично возрождалось – спутники жизни моей обступили меня, я ощутил эффект одновременного присутствия в пространствах разных лет, достоверных, густо заселённых пространств-лет было много, они, манящие, нетерпеливо сомкнулись, дождавшись моего возвращения! И вот я в одном из них, избранных памятью, будто бы – в ядре мироздания: за большим круглым столом, под жёлтым плиссированным абажуром, в квартире Толстовского дома, возможно, выставляемой сейчас на продажу, – вечные спорщики, Бердников и Савинер…
На сей раз они не спорили: Савинер, отодвинув запотелый графинчик с водкой и лимонными корочками на дне, ловко нарезал на дощечке копчёный омуль, привезённый из сибирской экспедиции, Бердников слушал, – Савинер рассказывал о приключениях (тонул в Енисее), о поздних ледоходах на Оби, Енисее, Лене, текущих с юга на север, из-за чего ледоходы, начинаясь на юге, в верхних течениях рек, наслаиваются на ещё прочные льды, устья рек до лета загромождают торосы, их подрывают, бомбят…
Увидел Бердникова и Савинера, выхваченных жёлтым снопом света из вечной тьмы, отчётливо увидел, – с морщинками, пятнышками пигментации… и графинчик увидел, и блеск серебряного ножа…
Ощутил запах и вкус омуля.
Аттракцион стартовал? – время пятилось.
Назад, назад…
Как далеко, – назад?
Послышалось ритмичное пощёлкивание; годы отскакивали назад, как на счётчике такси, – километры?
Философическая меланхолия, которой я предавался на солнечной Владимирской площади, обернулась болезненно-счастливым недоумением, будто не вручил клоун безобидный билетик на дворовое торжество с лицедеями, а огрел меня по голове чем-то тяжёлым, чтобы перетряхнуть калейдоскоп памяти; однако удар память мою – зрительную память! – не отшиб, не расколол абы как, именно перетряхнул: пока Иосиф Григорьевич Савинер громоздил ледовые заторы в устьях сибирских рек, до середины лета мешавшие судоходству, я очутился в темноватой запущенной квартире, в другой секции Толстовского дома, – угощался кулебякой у Антошки Бызова, одноклассника, в столовой с чёрным резным буфетом, поясным портретом белобородого старца с гордой посадкой головы, Антошкиного деда-антиквара, – в плоском ящичке буфета хранились не ножи с вилками, а тускловатые открытки с видами итальянских городов, на одной мощно закруглялся Колизей, на прочих комбинировались античные руины и пинии; слева к буфету примыкала полка с дымчатыми минералами, найденными на северном Урале и в Якутии Елизаветой Георгиевной, Антошкиной мамой, в «геологических блужданиях» (её слова); справа от буфета выцветала «огоньковская» репродукция тициановской «Венеры перед зеркалом» на бежевом обойном простенке с веточками, под репродукцией выделялась на фоне тех же веточек групповая фотография (тёмная сепия), запечатлевшая в 1912 году, – дата, росчерк Карла Буллы в уголке, – моложавых мужчин, выпускников гимназии Мая, среди которых, неуловимо знакомых, можно было узнать Антошкиного, безбородого ещё, деда, антиквара: за эту фотографию (на фото улыбались эмигрировавшие, репрессированные) в глухие годы легко было поплатиться жизнью. Я угадывал и уточнял, кто есть кто; однокашников-гимназистов, «василеостровцев» с разными судьбами, случай свёл: Бердников, Бочарников, Бызов, Вайсверк, Витман, Галесник, Зметный, Савинер, Тирц… – Алексей Александрович Бочарников мне преподавал рисунок, Евсей Захарович Зметный – начертательную геометрию, Владимир Александрович Витман – теорию и историю градостроительства, Илья Маркович Вайсверк и вовсе был моим родственником, а Мирон Галесник, завсегдатай модных салонов, ресторанов, катка в «Аквариуме», и, между прочим, член партии эсеров, сумел сохраниться под прессом советских лет в качестве управдома нашего дома на Большой Московской, жил не высовываясь, пока не попал под трамвай; почему я их, запечатлённых на фото, вспоминаю? Для умножения печалей? Так, Тирц эмигрировал, – сидел (на фото) за столом между Зметным и Савинером? – и был застрелен в Биаррице, в саду виллы своей, агентом НКВД; о Петре Викентьевиче Тирце и перипетиях его судьбы я узнал много позже… И – хотите, верьте, хотите, нет, – я синхронно с разглядыванием репродукции тициановской «Венеры перед зеркалом» и групповой фотографии выпускников гимназии Мая, а также – с поеданием таявшей во рту кулебяки, коронного угощения Елизаветы Георгиевны, – видел и слышал ещё и Додика Иткина, дудевшего в трубу свою; кстати, если истерично-хрипящее соло набычившегося Додика Иткина, который (на радость столпившимся внизу детям), разучивал перед окном похоронный марш Берлиоза, и было озвученной галлюцинацией, то – галлюцинацией уместной и своевременной: Додик проживал в Толстовском доме на той же лестнице, что и Савинер; Додик, кстати, был племянником Савинера.
Иткин, Савинер, Бердников… – отец Антона Бызова называл их, обитателей огромного доходного дома, «толстовцами».
Здесь, пожалуй, стоило задержаться…
Сколько их было, выпускников гимназии Мая, на той фотографии, – сидевших за столом, смотревших мне в глаза, не моргая, – девять?
Девять…
И – они пристально меня рассматривали из 1912 года, из эпохи краткого русского процветания. Но могло ли вразумить меня повторение простых фактов? Опять: фотография, изготовленная в престижнейшем ателье Буллы, и плохонькая репродукция из «Огонька»… – между дореволюционной магической фотографией и советской изопродукцией была связь…
Затрубил Додик, – с надутыми красно-пятнистыми щеками, в открытом окне; неутомимый виртуоз дул в трубу, из окна – лился похоронный марш Берлиоза; и вот уже печально-торжественный марш перетекал в томительную монотонность «Болеро» Равеля, – нельзя было лучше Равеля с Додиком выразить тревожную заторможенность.
Время пятилось… – пятилось, подчиняясь сценарию, не согласованному со мной, не синхронизированному с позывами памяти?
А вздорная память моя, вопреки попятной ритмике, активировала инстинкт самосохранения?
Я вспоминал, значит, – существовал?
Я – был, был, и, значит, – есть: «был-есть» в настоящем-прошедшем времени, подмешивающем частицы «тогда» к «сейчас»?
Но можно ли в воспоминаниях-размышлениях возродить алмазные пылинки в косом луче, упавшем на страницу книги, дуновение ветерка, качнувшего занавеску, принёсшего аромат клевера? Опять – не ущипнуть ли себя?
Так.
Так, ещё щипок.
Неужели я, – есть?
Отлегло, – есть, в наплывах воспоминаний.
Память, сопрягая боли и радости, сопротивлялась распаду…
И: вопреки естественным распадам, противоестественно, – и заново, – сплавляла мысли с чувствами, наделяла целью?
Хорошо бы, хорошо бы…
Но время-то, бесплотное, эфемерное, обхватив, стиснув абстрактными щупальцами, пятилось в аритмично-невнятном танце: ускоряясь ли, замедляясь, то истаивая в вальсовой плавности, то резко бросаясь туда-сюда, будто в ирландской джиге, дезориентируя не только вестибулярный аппарат, но и память? Вновь, как в качку на палубе, зашатало, голова закружилась, – спазм?
Спокойнее, ещё спокойнее, – зашептал внутренний голос, – всё действительное – разумно.
Поток верхнего света, парящие галереи, полотнища с эмблемами коммерческих брендов; изыски ширпотребного дизайна, предписанные маркетинговой модой храму купли-продажи, игнорируя увещевания внутреннего голоса, приплясывали в глазах.
В объёмной витрине фитнес-центра бежала по бегущей навстречу резиновой дорожке, оставаясь на месте, блондинка с развевающимися волосами.
Голубой воздушный шар отплывал от мансардного, слепо отблескивавшего окна гостиницы.
Мельтешили чёрные точки.
Сейчас, почувствовал, не удержусь на ногах и грохнусь, рассыплется калейдоскоп потребительских соблазнов…
Чтобы не грохнуться, прислонился к островному киоску с травяными шампунями из Аквитании.
Присесть бы и – выпить кофе…
Однако – не в британской кондитерской; тогда – Starbucks Coffee?
Да, – туго соображал, – за низеньким барьером с пластмассовыми, с анютиными глазками, ящичками, – столики и креслица американской кофейни…
Америка прославилась паршивым кофе, – вспомнил, но было поздно, – дежурная улыбка: капучино или эспрессо?
И ещё улыбка: присыпать ванилью?
Прежде, чем я сделал выбор, в ушной раковине без всякого повода грянул «Марш энтузиастов» духовой оркестр, такой, какие играли по праздникам, уж точно – Первого мая, в годы послевоенного детства-отрочества в Саду Отдыха, в ЦПКиО, в районных парках, на выбеленных по весне эстрадах; сейчас, однако, оркестранты толпились на чёрной мраморной лестнице неведомого дворца: возбуждение, надутые чёрные щёки трубачей в белых, притопывавших туфлях, чёрный блеск труб.
– Присыпать ванилью?
Допустим, цветное кино в детские годы мои ещё не утвердилось, воспринималось как фокус, лишь манившая подростков «Девушка моей мечты» с голой Марикой Рёкк в бочке и – сказочный «Багдадский вор» были цветными, «раскрашенными», как тогда говорили, но сейчас-то куда подевались краски, почему белое становилось чёрным, а чёрное – белым?
Реал-астрал, реал-астрал, реал-астрал… с чего бы взялись обратные контрасты физиологии? – простенькую мысль заело; смех Шанского невпопад, опять умопомрачение, на сей раз весёленькое…
Негатив и позитив, взаимно обратимые сущности?
В голове воцарился ералаш, впрочем, – и на том спасибо, – цветистый.
А чернело в глазах, когда зондировал я потусторонний, астральный, мир?
Кинопесенку не забыл? – «белое становилось чёрным, чёрное – белым». Что за издевательство? Никогда прежде томления мои так контрастно не вторгались в физиологию, не путали, до «наоборот», восприятие…
Тьфу, о чём я… – дезориентированный мозг оккупировали «истины в предпоследней инстанции»?
Спасительный горько-горячий глоток; аромат ванили.
Ещё глоток…
Ещё…
Слава богу: ленточным галереям вернулись формы, рекламам – яркость, неутомимая блондинка в витрине фитнес центра, не без труда вписавшись в собственный контур, продолжила свой забег на месте.