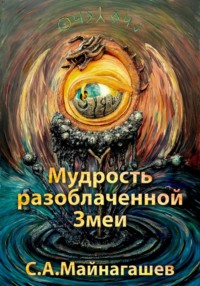полная версия
полная версияТайны забытых миров
Во-вторых, в южном направлении – это озеро Индер (по реке Урал, на севере Каспийского моря), также Туранское море (Азовское море). От Каспийского моря до Алтая – расположение самого Турана. Сохранилось название Туранская низменность.
В-третьих, на восточной родине турвашей – это озеро Индерь (район Новосибирска и оз. Чаны), поселение Аба Тура – древнее название города Новокузнецка. Здесь находилась провинция Тара (Тура), возможно, ее и называли индийские арии «Вай таран». История сохранила наименование Туранской волости в Кемеровской области. Есть озеро Индиколь на севере Хакасии, недалеко от него (25 км) есть гора Варна, имеющее сходство с именем Варуна – владыка ночи. Есть озеро Инголь возле д. Сорокино по р. Урюп (север Хакасии). Одним из местных гидронимов Енисея является Иоандези, вполне созвучное с Индом.
Эти озера и реки находятся в ареале проживания праарийских племен тур/вашей – почитателей бога Индры. Обращает на себя внимание повторяемость названий некоторых гор, озер, рек, а также населенных пунктов противников Индры – тюркоязычных панов, богатых («бай») – змее поклонников бога Кызыл Джар. Конечно, история народа пани (яванов) и турвашей требует углубленного разбора и обобщений. Поэтому мы будем придерживаться приобретенных знаний и шаг за шагом продвигаться в объяснении истории не только андроновских турвашей, но и таинственных пани.
Саяно-алтайские паны (пани) сформировались как туранский этнос. Паны-волки в период окуневской культуры могли распространить свою власть на некоторые районы Саяно-Алтая, Западной Монголии, частично Обь-Чулымья и Южного Урала. Стремительный рост влияния древнесакского (не путать с поздним скифским миром) народа пани был обеспечен тем, что сразу после падения царства Турваш все же многие племена, в том числе и паны, еще не одно столетие признавали власть правящей касты жрецов (шаманов), поступив к ним на службу. Их мы знаем как манов (манасов), арьяманов и атаманов. От тех древних времен царства тур/вашей до нас могли дойти отюреченные этнонимы «чуваши», алтайские «чабаши» («чабаты»), южноуральские «баш/курды». История потомков турвашей знает так же как скифов – саков или шаков.
Что же было с индоевропейскими племенами турваши в период расцвета их культуры? Известно, что в животноводческом хозяйстве, по сравнению с земледельческим, довольно активно происходит развитие имущественного неравенства. По этой причине для скотоводов жизненно важной задачей для выкармливания интенсивно растущего скота стали охрана («ман» – охранять; «паш» или сан. pas – пасти), а также расширение и завоевание новых пастбищ. Все эти процессы и могли привести к возникновению боевых отрядов конников, т. е. турбашей или турвашей, в составе скотоводческих общин. Они начали создавать загоны для домашних животных, которые имели для них сакральное значение (см. инд. «свар» и хак. «све»).
С развитием кочевого этапа жизни андроновских племен на богатых просторах «Арьян Вайджи» и появляются «царские» турваши – инициативный и рассудительный слой только что рождаемого раннеклассового общества.
Все это произошло естественным образом в середине II тыс. до н. э. на широких просторах Обь-Чулымья. Эти боевые дружины в социальной жизни общества составляли свободную, подвижную военную прослойку. Они становятся богатыми пастухами (см. сан. pas – пасти), состоятельными владельцами многочисленного скота. Людей этой прослойки (аристократический пласт), в отличие от простых их соплеменников, в «Ригведе» называли не только турвашами, но и асами (в «Авесте» – азадами, т. е. арийцами). Сохранились саяно-алтайские «асы», которые упоминаются в древнетюркских рунических надписях.
Эти индоевропейские племена, радеющие за «чистоту» крови, считали себя потомками «солнечного» Арьямана. Правда, в иранском зороастризме этот изначально благой образ превратился в духа зла Аримана, а в Сибири – в Эрмена, т. е. покровителя шаманов.
Наиболее восточной области проживания праариев были территории Обь-Чулымья и Минусинская котловина. В эпоху бронзы в этих местах создается пано-арийское социально-этнокультурное пространство, результатом чего явилось сложение угорских, древнетюркских и индоевропейских народностей.
На археологическом материале прослеживаются следы материальной культуры, говорящие о проникновении андроновских индоевропейцев в Хакасско-Минусинскую котловину, о чем можно судить по разрушениям крепостей, связанным с кризисом окуневской цивилизации.
Немногочисленность поселений в «археологическом» Обь-Чулымье, бассейне Среднего Енисея, возможно, связана с физико-географическими особенностями района. Но нельзя исключать, что причиной могло явиться и кочевое скотоводческое хозяйство андроновцев в пределах южной степной полосы Сибири, включая Обь-Чулымье и Барабу.
В целом следует отметить, что все поселения андроновской-«ф» культуры на юго-востоке Западной Сибири содержат только культурный слой, реже хозяйственные ямы, и ни на одном нет остатков жилищ. Отсутствие у андроновцев-«ф» восточных районов долговременных жилищ столбовой конструкции, аналогичных жилищам Казахстана и Зауралья, позволяет предполагать у них более подвижный образ жизни, чем у их западных соседей. В лесостепном Зауралье нет ни одного собственно андроновского-«ф» поселения, что и объясняется обедненностью культурного слоя.
Пристрастие к степному простору, боязнь оседлости и пренебрежение покоем – все эти факты и являются причиной недолговременного характера андроновских поселений. На наш взгляд, этим и выражена неравномерность археологической изученности региона андроновских-«ф» памятников Обь-Чулымья, т. е. мало изученность источниковой базы.
Спустя столетия о потомках тех могущественных сибиряков Геродот напишет в своей «Истории»: «…Ведь по эту сторону Понта (за Черным морем) …у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством; их жилища – в кибитках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? Этой особенности скифов, конечно, благоприятствует их земля и содействуют реки. Страна скифов представляет собой богатую травой и хорошо орошаемую равнину».
На подвижный образ жизни андроновцев Обь-Чулымья указывает тот факт, что до настоящего времени археологам крайне редко встречаются поселения андроновского периода, что обычно бывает, когда люди проживают на одном месте недолго, не оставляя после себя значительных следов пребывания.
В. И. Молодин в статье «Бараба в эпоху бронзы» (Новосибирск, изд. «Наука», Сиб. отд.,1985), говоря о возможном существовании у андроновцев жилищ принципиально иной конструкции – транспортабельных наземного типа, связывает их появление с ростом подвижности населения, которая была обусловлена необходимостью в пастбищных угодьях. Собственно, ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, что основную роль в экономике населения восточных районов ареала андроновской-«ф» культуры играло скотоводство.
Вполне возможно, что у этого населения в последней трети II тыс. до н. э. в пределах бассейна Верхней Оби, Обь-Чулымья и Хакасско-Минусинской котловины происходило становление отгонного скотоводства. Параллельно идет возникновение раннекочевнических обществ. В некоторых гимнах «Ригведы» говорится, что это арии удерживают богатство, состоящее из коров и коней.
В. И. Молодин также пишет: «Что же касается огромной территории лесостепей между Минусинской котловиной и Иртышом, где обитали андроновские племена, несмотря на наличие культурных слоев андроновского времени, в Кузбассе, на верхней Оби и в Барабе до сих пор не обнаружено ни одного жилища андроновцев. Этот факт вряд ли можно объяснить слабой степенью изученности андроновских поселений в этом обширном районе, тем более что на ряде памятников, в том числе и в Барабе на поселении Каргат-б, выявлены хозяйственные комплексы андроновцев: ямы, заполненные костями животных, керамикой, рыбьими костями и чешуей и т. д. На наш взгляд, причина такого положения вещей как раз в особенностях конструкций андроновских жилищ, которые мы пока не смогли проследить, исследуя андроновские поселения. Жилища могли быть наземного типа, легко складывающиеся и подлежащие транспортировке. На эту мысль наводит ряд фактов. С появлением колеса андроновцы получили возможность передвигаться на значительные расстояния. Это новшество, несомненно, способствовало их усиленному и достаточно быстрому продвижению на восток. Потребность в передвижении была обусловлена, очевидно, необходимостью в пастбищных угодьях. По этой причине у андроновцев могло произойти изменение в типе поселка и конструкции жилища, которое из обширной землянки могло превратиться в легкую наземную конструкцию. Однако пока все же этот вопрос следует считать открытым».
Значит, основным занятием населения Обь-Чулымья, т. е. страны турвашей, было скотоводство, т. е. разведение мелкого и крупного рогатого скота. Одним словом, повседневная жизнь у них могла быть построена в условиях степных кочевых общин.
Индоевропейские мифы о борьбе громовержца со змеем могли зародиться только в местах совместного проживания сибирских праариев и «демонского» племени пани (в симбиозе двух культур), т. е. на северных отрогах Саяно-Алтайских гор во времена окунево-андроновской культуры.
Таким образом, на основе анализа выше отмеченных письменных источников «Ригведы» в восточной части (от границ Барабы до Енисея), то есть, в местах обитания андроновцев-ариев (II тыс. до н. э. – середина II тыс. до н. э.) под названием «турваши», жили не только индоевропейские племена, но и предки угро- и тюркоязычных племен.
Индийский термин «турваш», доставшийся в наследство от сибирских турбашей (позже фигурируют как древнебулгарские «хон-турчи»), первоначально звучал в социальном плане. Позднее в Южной Сибири, этноним «турваш» стал означать новое этническое содержание.
Индоевропейские турваши, утвердившись в Обь-Чулымье и на севере Саяно-Алтая, установили свое господство над угро-тюркоязычными племенами (общинами). Эта политическая власть, начиная с царя Турваши, привела к формированию политико-административной системы управления в Южной Сибири.
В регионе Обь-Чулымья и северной части Саяно-Алтая в древности с индоевропейскими, угорскими и самодийскими языками бок о бок существовал и древнетюркский язык. Он, по всей вероятности, сложился как родной праязык народа ман или пан.
Во время царства Турваши его владение достигает мировой империи, и сфера влияния тюркского языка как господствующего языка государства Тура (Туран) начинает охватывать широкую географическую среду.
Если учесть все это, то становится ясным, что самые восточные арийцы формировались в кругах памятников эпохи «степной» бронзы Обь-Чулымья и предгорий Северного Саяно-Алтая. Однако праарийцы не могли изменить языки аборигенного населения в данных регионах. Языки праарийских турвашей в конечном счете были поглощены языками соседних или пришлых племен. Как нам представляется, в это время на Саяно-Алтае на местной основе функционировали не только индоевропейский, но также самодийские, угорские и пратюркские языки.
Утвердив свою политическую власть над северной территорией Саяно-Алтая, арийцы-турваши способствовали расширению ареала распространения угорского и тюркского языков, как языки руководимых ими сообществ или племенных союзов.
Для территории Саяно-Алтая тюркский язык, как, впрочем, и праиндоевропейский, не чужой, а местный. Язык арийцев, которые остались в этом ареале после распада андроновской культуры, впоследствии был поглощен пратюрками Сибири.
Их потомки (андроновские субстраты) известны как киммерийцы из страны «тумана» и «пещерной» тьмы. Западные современники из-за образа жизни полукровных киммерийцев часто путали их с тюркоязычными саками, называя тех и других скифами. Вероятно, интеграция этих двух народов была связана с их генетической памятью о родстве их далеких предков.
Как мы помним, выходца из «пещерной» тьмы пратюркского Пана-Явана приравняют к самому индоевропейскому Турвашу (Турбашу). Потомки этих легендарных царей (Пана, Явана и Турваша) были хорошо известны от Южной Сибири до Индии и далее до Средиземного моря и Малой Азии, включая Древнюю Грецию. Значит, эти загадочные яваны и восходят к некогда общим тюркско-индоевропейским корням из далекой Сибири. От этих групп (общин) древнейших племен «пани» (паны) происходят не только малоазийские яваны (предки турков, греческие ионийцы), но также праславянские иваны и паны.
К потомкам сибирского Пана, в свою очередь, следует отнести тюркоязычных табанов и даваней от Енисея до Урала, далее до Средней Азии и Восточной Европы. Геродот в своей «Истории» именует их скифами.
Как мы уже предположили выше, создатели «Ригведы» этнонимом «турваши» – одну из племенных групп Обь-Чулымья и северного Саяно-Алтая, вполне могли считать «царскими». Этноним племени «турваши» было дано по имени их царя Турваша еще до переселения в Индию.
Подобное же случилось со скифами, названными так по имени их предводителя Скифа. Конечно же, корни происхождения «царских» скифов нужно искать в предгорьях Саян, издревле считавшихся «пещерной» страной людей-змей, неких сибирских нагов.
«Царский» Скиф, по преданию, родившийся в пещере от спаривания бога Геракла с женщиной-змеей, вполне мог быть выходцем из Саянских гор. Очевидно, из саянской «пещеры» (также от спаривания бога, но уже с коровой) вышли саянские киргизы – сайаны. Мы их знаем, как людей горы – та/банов, а восточным народам они известны как яваны.
Позже в «Махабхарате» самого андроновского царя Турвашу назовут Яваном, т. е. Паном (Пани). Одного из сыновей Яяти так же нарекут именем Яван. Потомки этого легендарного Явана заселят Малую Азию (территорию нынешней Турции) и Древнюю Грецию. Таким образом, древние турки, как и греческие ионийцы, являются яванами – потомками Явана или самого Пана.
Еще на далекой сибирской прародине этот Яван (Кала Яван – «Кара Пан») в битве на Курукшетре принял сторону Дурьйодханы. Самим Яяти (отца Турвашу) было предсказано, что эти яваны также завоюют Индию, и это пророчество впоследствии сбылось. Их потомки шаки-яваны займут северную часть Индии. Страну царевича Турвасу завоевал Сахадева (сакский правитель), один из братьев Пандавов.
Под влиянием господствующей панской (тюркско-угорской) языковой среды арийские турваши в Южной Сибири постепенно теряли свой родной праиндоевропейский язык и в конечном счете тюркозировались. В наследство тюркам они оставили такие слова, как «турбах» (бык) от «тура», «индер» (валить, рушить, вниз) от Индры, «пас» (пасти) от pas, «кара» (лучи солнца) от kara (лучи) и т. д.
С тех пор происходит преемственность не только многих слов, но и системы управления царских саков (шаков), перенявших ее от царских турвашей.
Геродот, упоминая имена первых скифских царей (Липоксай, Арпоксай и Колаксай) – детей некоего Таргитая, невольно отсылает нас к эпохе андроновской культуры с разрывом в тысячу лет. Вернее, со времен андроновских турвашей юга Сибири (это XVIII–XVI вв. до н. э.) до известных тагарских динлинов и саков Саяно-Алтая (VIII–VII вв. до н. э.) прошло почти столько лет. Геродот в V в. до н. э. писал о скифах: «Они (скифы) думают, впрочем, что со времен первого царя Таргитая до вторжения в их землю Дария прошло как раз только тысячи лет».
Скифские правители или цари, если верить Геродоту, названы скифским термином «сай» (Липоксай, Арпоксай и Колаксай) не случайно. Скорей всего, под эпитетом «сай» нужно понимать их небесное происхождение в горах Сай/ан (Саянские горы).
По ассирийским и вавилонским источникам известен схожий греческому «скузай» (скиф) вариант – это «ашгузай» и «ишгузай».
Первая часть «аш» слова «ашгузай» связывается с саяно-алтайским этнонимом или названием народа «ас». По мнению востоковеда В. В. Бартольда, вместе с енисейскими киргизами несколько раз фигурирует народ аз.
Этноним «ас» упоминается в древнетюркских рунических надписях. В них говорится, что народ ас (аз) жил в западной части современной Тувы, близ оз. Кара-Холь, а также на территории, входящей в кочевья племен теле.
Последняя часть «зай» или «сай» слова «ашгузай» в обозначении сакского правителя Скифа была выбрана не случайно. Саяно-алтайские этнонимы хакасских и тувинских родов «сайын» (сойан), «сайыт» и «сайгот» с корневой основой на «сай» так же могли означать «правитель» или «господин», что подтверждается сакскими (скифскими) названиями первых правителей скифов.
Мы можем рассматривать сайанских саков (сагайцев) как народ «царского» происхождения, чьи предки в странствиях из Саяно-Алтая до Европы остались на море Понт Эвксинском, в то время как другие предпочли перебраться в Армению. В районе Понт Эвксинского моря (Черное море), по словам Стефана Византийского, существовал народ, называемый saxoi (саксой или сак/сай). Впервые саки упоминаются в древнеперсидском манускрипте «Авеста».
Возникает вопрос: почему именно слово «сай» (позже «сайы», «сайаны») было выбрано в качестве обозначения царских скифов? В случае саков-сайанов, вероятно, следует говорить об авторитете в определенной этнической среде понятия «сай».
В Сайанской (Саянской) среде, превратившей в середине II тыс. до н. э. имя «сай» в этноним, присутствовал субстрат родов и племен, входивших в так называемые небесные рода. В каменной карте богиня-река Эне сай (Енисей) указана в горах Сайан (Саян), то есть, в небесном Кантегире. Как мы помним, культ божественных или пещерных гор принадлежал народу пан или табан (та/паны – «люди гор»). С этими панами из пещеры следует связывать происхождение, т. е. рождение С/кипа, видоизменного греками в Σκυθηξ, что звучит по-русски «скиф».
Эти «небесные» правители в новом сайанском обществе смогли обеспечить себе авторитет («сай» – почет), а позже и политическую власть над многими племенами и народами Евразии. Авторитет первых скифских правителей (Липок/сай, Арпок/сай и Колак/сай) позволил превратиться слов «сай» в новый «саянский» этноним «сайан» («сойан», «сайын», «сайыт» и «сайгот»), под которыми следует понимать воинственных сайев (хак. «сай» – буйный).
Главное здесь – существование идеологической необходимости выбора, создания нового этнонима, возникшего из желания показать свое превосходство, в том числе превосходство воинского духа, над другими этносами. По этим идеологическим соображениям сибирские скифы и предпочли себе царское названия «сай». У хакасов сохранилось слово «сай» со значением буйный, т. е. воинственный. Сравните, русское слово «отчаянный» – смелый до безрассудности, очень сильный, возможно, этимологизируется от слов «сай» или «чай» (чаять, чаянный). Саяно-алтайские паны-сайаны, т. е. та/баны (горные люди) всегда ассоциировались с воинами-храбрецами. Отсюда и хакасское название «табан», что значит удалец, герой.
Так, сайанские воители с/кип-саки, скиф-саки (см. хакасское слово «саг» – война), сформировавшиеся около середины II тыс. до н. э. и попали под названием шаки в исторические документы («Махабхарату») VIII–VII вв. до н. э. Позже мы их знаем, как кочевников-кипчаков.
Здесь необходимо выяснить этническое происхождение саков, населявших долину реки Эне сай (Енисей) в священных горах Сай/Сайан. Коротко о возможных путях формирования этого этноса.
Как мы предположили еще в начале, пани или паны были вынуждены сместиться под натиском воинственных степняков Обь-Чулымья ближе к горам Восточных и Западных Сайан (Саян). Одна из групп тюркско-угорского племени пан, находившаяся в составе державы турвашей, распавшаяся к концу андроновской культуры, осталась на Саяно-Алтае. Причиной распада этой индоевропейской культуры был выход на доминирующие позиции в Южной Сибири тюркоязычных панов (предков табанов), а также их потомков саков (см. хакасы-сакайцы), выдавивших не подчинившиеся им племена турвашей с их исконных земель.
Саяно-алтайская группа панов – предков саков (шаков), ассимилировав андроновцев, присутствовавшие в этом ареале в середине II тыс. до н. э., сформировала большой этнос под названием кимеры (киммерийцы), тирены (тирренцы), невры, сайы или сайаны.
Позднее основная часть киммерийцев (андроновские субстраты 1200–800 гг. до н. э.) могла войти в состав скифских саков – сайев (сайанов).
Современные сайыны, сайыты и сайготы из Сайан (Саянские горы) являются наследниками сакских сайев (царских скифов), происходящих, в свою очередь, от тюркозировавшихся в 1800–1500 гг. до н. э. индоевропейских турвашей Сибири.
В наследство древним тюркам они оставили многие ритуалы и обычаи, проведение которых следовало по законам «кип». Как мы помним, одним из ритуалистов-законников был С/кип (Скиф). Рожденный в горах Сай (Саян), вернее, в пещерной Вале (Алатау) от змеевидной женщины и забредшего в эту пещеру Геракла (андроновца), Скип всегда придерживался «кип» – древних законов маны.
Напомним, С/кип неуклонно следовал примеру древних предков – устроителей «С» или «Аз» – начальных или древних «кип» (обычай ношения за поясом чаш для Сомы и натяжения лука). Этому обычаю всегда следовали скифы – «кип-саки». В хакасском языке «кип» или «кибiр» означает обычай, закон. Одним из скифских законов, которого придерживались саки, вероятно, было регламентированное исполнение объявления войны (см. хак. «саг» – война).
Однако после распада андроновской культуры (это около 1300 гг. до н. э.) сибирские праарии сумели донести царское название «турбаш» как «турваш» до самой Индии. С зарождением туранских или панийских сообществ Сибири, андроновские турваши, а позже и кимеры (киммерийцы) начали превращаться в другие этнические группы, т. е. в сакские сайы или в скифов-саков (скип-чаки). Следы первоисточника «скип» теряются в глубинах пратюркского и индоевропейского языков. Носителями этих тюрко-индоевропейских языков (носителей гаплогруппы R1a) были европеоидные представители андроновской культуры.
Возможно, от имени Скифа, рожденного в горах Сай (Саян), и сохранились греческий «скузай» (с/кус/сай), ассирийский «ашгузай» (аш/куз/сай) и вавилонский «ишгузай» (иш/куз/сай). Как мы видим, во всех этих словах корнем являются «куз» (гуз) и «зай» (сай).
Интересно и то, что следы скифского «кус» (см. «скус», «ашгуз», «ишгуз») встречаются в римской мифологии под именем Какус (Ка/кус). В легенде он описывается как чудовищный великан, угнавший коров у Геркулеса (Геракла) в свою далекую пещеру.
«Кус» («куш») – сила, мощь; «кучун» – 1) богатырь, силач; 2) шаманские силы, шаманские духи. «Куус-куус» – магический возглас, вызывающий быстрый выход плода при родах. Кuc (сан.) – звучать, издавать звуки. «Кÿз» (каз.) – скала, утес; «кÿзе», «кöзе» (хак.) – курган.
В отличие от римского Геркулеса (Геракла), который убивает Какуса (прототип Скифа), греческий Геракл не только прощает вора, а вовсе вступает в любовную связь с матерью Скифа – змеевидной женщиной в пещере. Значит, греческий миф, где Аполлон прощает Гермеса (Пана) за угон коров, более древен, чем его римский аналог. Связь Какуса с рогатым Гермесом выдает его имя с начальным «ка» (олень – бу/га) или «го» (корова).
Со слов Геродота мы знаем, что самое большое царство, «где хранилось золото», досталось одному из трех сыновей Колаксая (Колак Сай).
Геродот (История): «Так как земли у них было много, то Колаксай разделил ее, по рассказам скифов, на три царства между своими тремя сыновьями. Самым большим он сделал то царство, где хранилось золото». Скифские источники, переданные Геродоту, мало повествуют о территориях проживания конкретных сибирских скифов. Но все же географическую локализацию царства, «где хранилось золото», доставшееся от Колак Сая, мы можем предположить – это Саяно-Алтай. По мнению многих ученых, «золотой век» сибирских скифов совпал с расцветом их культуры именно в этом регионе – Сай/ане (Саянские горы и Алатау).
С распадом андроновской культуры Минусинская котловина, а также «пещерные» склоны горных хребтов Сай/ан (Саян) начали заселяться группами сакских сайан. Во времена скифских царей (Липок/сай, Арпок/сай и Колак/сай) владения сайанских правителей (сайев или сайанов) достигает мировой империи, охватив огромную географическую среду Евразии. Вероятно, изначально малочисленные скифские саки/сакайы стали использовать в качестве самоназвания известный в этих местах с прежних времен этноним «сай».
Это была попытка утвердить власть над индоевропейскими племенами Южной Сибири и право на обладание сакральной землей Ман.
Когда возросшие племена панов или табанов (конфедерация «Семь племен»), населявшие горные Сайаны (Саяны), переселились на Урал, в Южную Россию и на Балканы (включая Паннонию), среди них находились потомки сайанских панов, сохранившие древнее название «сай»/ «сайан». Возникшее еще через тысячу лет политическое образование стало именоваться Киргызским ханством или каганатом.
Такова прямая преемственность «царских» скифов под названием «сай» («сайаны») от «царских» турвашей, затем киммерийских царей. Позже эту преемственность, но уже как этноним, мы наблюдаем у сайанских сагайев, у славянских сайанов (они же сайы) и у карпатских секеев Валахии от сибирской Валы или Сайанской Алатау.