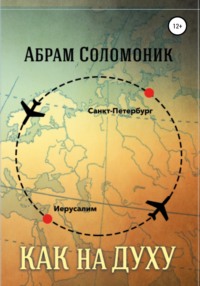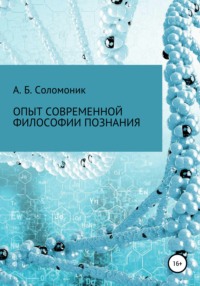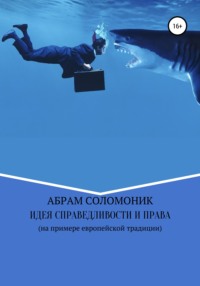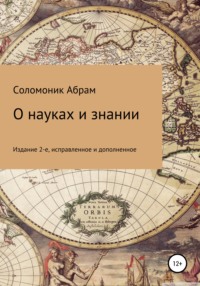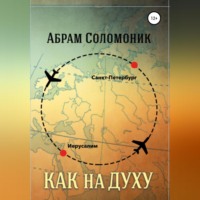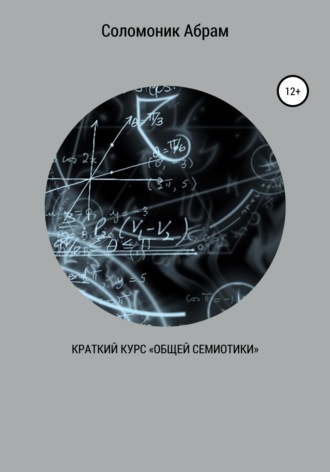 полная версия
полная версияКраткий курс «Общей семиотики»
Особое место переменные знаки занимают в создании программ для электронных гаджетов: «Переменные − важнейшая часть любого языка программирования, позволяющая хранить, использовать (обрабатывать/определять) и передавать данные. Следовательно, именно переменные являются тем звеном, которое является ключевым… для максимально эффективного и безопасного решения различных задач. <…> Стоит отметить, что переменные в программировании отличаются от математических переменных, также используемых в разных областях техники и естественных наук. Так, например, в задаче найти произведение Z двух натуральных чисел X и Y с помощью вычислительной машины, умеющей выполнять только сложение, необходимо написать программу, обусловливающую данное решение.
Поскольку программа должна быть универсальна: вычислять произведения для любой пары натуральных чисел, − то вместо чисел в ней употребляются имена, обозначающие изменяемые объекты, которые и называются переменными. Нам приходится присваивать определенные имена/значения переменным, либо описать, что такое произведение, а также решать вопрос с натуральными числами. Именно этим (условно) многообразием проблем и определяется многообразие языков и методов решения работы с переменными».12
Если переменные знаки позволяют нам обходить проблемы, с которыми не могут совладать обычные знаки, то промежуточные знаки предоставляют нам возможность избавиться от обилия знаков, часть из которых оказывается необязательной. Возьмем для примера циферблат часов, представляющий собой небольшую знаковую систему определения точного времени на какой-то данный момент.
На циферблате обычно отображаются 12 часов, то есть, половина суток. На крупных часах (башенных, напольных или настенных) можно легко разместить все знаки системы: цифровое изображение часов и промежуточные черточки для изображения получаса − длинная черточка и более короткие − для каждых пяти минут. Такое изображение времени вполне удовлетворительно для обычных бытовых ситуаций. Когда мы переходим на карманные или наручные часы, то подробное исчисление времени на циферблате делается затруднительным. Тогда мы попросту избавляемся от цифр для нумерации часов, а иногда и от промежуточных черточек, которые показывают минуты. Для человека, привыкшего к часам, такая профанация знаков оказывается несущественной.
Избавление от чрезмерного количества знаков практикуется во многих случаях и обозначается иногда специальными значками. Что такое многоточие на письме? Это − пунктуационный знак, который показывает, что мы в данном месте могли бы продолжить нашу мысль, но считаем это ненужным. Поэтому мы отделываемся многоточием, оставляя поиск дополнительных доводов на долю самих читателей. В эс-эм-эсках мы зачастую заменяем множество слов, выражающих наши эмоции, каким-либо одним эмотиконом; а если мы переполнены эмоциями, то и несколькими эмодзи подряд. Таким образом мы экономим массу слов, заменяя их одним либо несколькими образными значками.
Знаки простые, сложные, смешанные и их сращенияПо композиции знаки могут быть разделены на указанные в заголовке четыре категории. Определим каждую из них в нескольких словах.
Простые знаки в своей исходной форме демонстрируются в номенклатурах. Простые знаки могут получать морфологические добавки, но при этом они остаются простыми. Так, слово «лес» может быть представлено в многочисленных падежных словоформах («от леса», «в лесу», «за лесом»), оставаясь при этом простым знаком. Улыбка как знак может оказаться дружественной, кислой, горькой или вымученной, но в любом случае она по форме воспринимается как гримаса на лице и как простой знак какой-то эмоции.
Знак перестает быть простым, когда он перерастает рамки данного ему первичного определения. Он остается простым знаком, прибавляя всевозможные морфологические добавки, пока не наступает критическая точка; тогда знак с добавками превращается в сложный составной знак. В химии простые знаки ограничиваются набором номенклатурных знаков атомов в таблице Менделеева; а в знаках молекул соединяются два или три простых знака в сложный: Н2О (молекула воды), NaCl (молекула поваренной соли). В упомянутых молекулах знаки атомов объединяются в сложный знак с учетом их валентности. Части сложных знаков соединяются в сложный не просто путем простой агрегации, но по особым правилам системы, которую они же составляют. Так, например, сложные слова в русском языке соединяются с помощью буквы [о]: главн[о]командующий, кос[о]глазый. В других языках тоже существуют специальные правила объединения нескольких слов в единое неразделяемое целое. Поговорим об этом в следующей главе в разделе «Наделение значениями».
Особым типом сложных знаков являются смешанные знаки, в которых соединяются не разноплановые знаки, а знаки одной и той же категории, но разного веса (см. главу о знаковых системах). Так, в определении времени обычно участвуют знаки часов и примыкающие к ним знаки минут: 9.45 (9 часов и сорок пять минут). Мировой рекорд в беге на сто метров принадлежит бегуну из Ямайки Усэйну Болту и равен 9.58 сек., то есть девяти и пятидесяти восьми сотым секунды. Заметьте, что в этом случае смешиваются знаки двух разных систем − замер времени, основанный на 60-мерном основании (час, минута, секунда) и замер пространства со 100-мерным основанием (сантиметр, метр, километр). Замеры сегодняшнего дня настолько сложны, что приходится обращаться к смешению знаков из разных систем.
В рангах войсковых (не корабельных) воинских званий в российской армии имеются ступеньки, снабженные дополнительными характеристиками по отношению к основному знаку. Вот их перечень в современной русской армии по параметру возрастания рангов и с перечислением только таксономических групп: солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и офицеры. Группа офицеров распределяется на подгруппы следующим образом: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, маршал Российской федерации. В подгруппах лейтенантов, полковников и генералов имеются подразделения, обозначенные смешанными знаками и с участием номенклатурной компоненты. Я их выделил курсивом.

Наконец, последнюю группу сложных знаков, которую я выделяю, можно смело назвать
идиоматическими знаками
или
знаками-сращениями.
Они отличаются тем, что связанные между собой части этих знаков практически нераздельны и составляют компактное единое целое. Все мы знакомы с языковыми идиомами, такими, как «Его услали, куда Макар телят не гонял», то есть, на край света, «в места не столь отдаленные» (!). Никто не знает, кем был Макар, и куда он гонял своих телят, но общий смысл идиомы ясен и обладает большой эмоциональной силой. Идиоматические знаки встречаются не только в языковых системах. Скажем, в дорожном знаке, повелевающем остановиться, «дальше ехать нельзя», все его элементы работают совместно: форма, цвет и надпись. Всё вместе содержит абсолютное запрещение на продолжение езды в том направлении, на которое указывает знак.
Сращение, использованное Солженицыным в названии его книги «Архипелаг ГУЛАГ», произошло от официального наименования отдела Министерства внутренних дел и расшифровывается как «Главное управление лагерей», разумеется, концентрационных. Оно давно уже отошло от своего первоначального смысла и понимается просто как система устрашения жителей Советского Союза. Выражение «Это − невидимая часть Луны» означает что-то непонятное, находящееся от нас в недоступном противостоянии. Луна повернута к нам лишь одной стороной, которая видна в телескоп и понятна, а вторая половина Луны скрыта и невнятна. Музыкальный аккорд я бы тоже отнес к сращениям звуков, сливающихся в единое гармоничное целое. Все это сращения знаков, нераздельные на части по своей конструкции.
Может ли “ноль” быть знаком “ничего” вместо пустого места?Еще как может, не хуже знаков, сопровождаемых положительными или отрицательными зарядами. Дело в том, что пустое место означает “пустоту” вообще, в противовес чему-то заполненному, а “ноль” (“нуль”) означает, что на данном месте не стоит знак из данной конкретной знаковой системы, хотя по правилам системы это место должно быть как-то обозначено. На помощь приходит ноль, оставляя пустым местам положенную для них территорию.
При этом ноль приобретает много значений. Во-первых, ноль обозначает отсутствие знака на той или иной позиции, где обязательно должен стоять какой-то знак. В позиционной арифметике, там, где не появляется ни один из девяти численных знаков (1 − 9), ставится ноль, объявляющий, что в этом месте численных знаков нет. Сегодня присутствие нуля в расчетах никого не удивляет, но, когда рождалась и распространялась позиционная система исчислений, его присутствие многим казалось странным, а некоторым − недопустимым. Скажем, на Руси до заимствования позиционной системы счисления пользовались гематрией, когда вместо цифр ставили буквы алфавита, каждая из которых наделялась своим числовым значением. В ней отсутствие числового знака показывалось пустым местом, где не стояла ни одна из букв. Это было страшно неудобно, особенно в конце числа, да и сам счет с помощью гематрии был лишь паллиативом, который использовался до появления более эффективной системы. Таковой оказалась индо-арабская позиционная система.
Во-вторых, ноль (обычно в заглавной его интерпретации) используется как знак, от которого исходит целая когорта аналогичных по значению знаков, помещенных рядом с нулем. Так, на линии натуральных чисел в каком-то месте ставится О. Тогда справа от него размещаются цифры со знаком плюс, а слева со знаком минус. Первые идут по их возрастанию вправо, а левые цифры от меньших к большим движутся влево. На практике ноль даже не упоминается, но предполагается. Так, Ньютон жил в промежутке от 1643 г. до 1727 г.; по расположению дат можно не сомневаться, что происходило это в новое время (н. э.). Сократ − в промежутке с 399 г. до 449 г., то есть, до рождества Христова.
В системах координат от ноля (О) расходятся оси, которые делят пространство на различные плоскости. Появляются многочисленные системы координат, где начальная точка обозначается нулем, отходящие от нее оси буквами x, y, z, то есть так, как обычно обозначаются неизвестные. Эти оси дают нам возможность выяснить конкретные расстояния до точки или целой фигуры (т. е. ее месторасположение в пределах координатной сетки). Для этого существуют разные алгоритмы. На плоскости, пользуясь двумя осями в декартовой системе координат, мы определяем местонахождение любой точки по абсциссе и ординате. В пространстве мы определяем уже три неизвестных расстояния точки от трех плоскостей, которые создаются расходящимися от О осями. Иначе говоря, за значком О надежно закрепилось значение «начальной точки образования некоторых систем».
В языках слово «ноль» имеет значения «ничего», «пустое место», «пустота» вообще: «Он просто ноль»; «У меня ноль денег»; «Это − ноль без палочки». Наконец, мы можем использовать ноль как определенный знак чего-то по антонимичности понятий «да» ↔ «нет»: «Если ты в моем окне не увидишь цветов, не входи, − мама дома, Увидишь − звони или стучи».
Глава 2. О СЕМИОЗИСЕ
Что такое семиозис?
Семиозисом называется процесс порождения знаков и наделения их определенным значением/значениями. Процесс этот может быть осознанным и бессознательным. Первые слова, например, рождались совершенно бессознательно, просто из желания назвать какой-нибудь предмет или явление, которые появились в поле зрения говорящего. Название требовалось прежде всего для самого человека, чтобы «оживить» заинтересовавший его объект и сделать предметом своего внутреннего мира, но также и для того, чтобы наладить коммуникацию по поводу данного предмета с другими людьми. Наилучшее описание зарождения такого процесса я нашел у Елены Келлер.
Елена родилась в 1880 году в штате Алабама, США. В 19-месячном возрасте, переболев какой-то болезнью, она осталась слепой, глухой и немой, так что не понимала окружающих ее людей и не могла с ними общаться. Родители пригласили 20-летнюю Анну Салливан жить вместе с отрешенной от мира девочкой и ухаживать за ней. Анна кормила ее, водила гулять и время от времени писала слова на ее ладошке. Слова на ладони сопровождались получением названного предмета − пирожка или куклы, о которых сообщала ей Анна. Девочка связывала одно с другим, но не понимала внутреннего содержания этой связи знака с его изображаемым: «Я не понимала, что Анна пишет слова или даже самого понятия, что такое слово». Так продолжалось, пока не произошло откровение.
Это случилось так: «Однажды мы шли по дорожке сада к колодцу, вдыхая сладкий запах цветов. Кто-то набирал воду из колодца, и моя воспитательница подвела меня к нему и подставила мою руку под падающую воду. Струя попадала мне на руку, а Анна писала на ладони второй руки «в-о-д-а», сначала медленно, а потом быстрее. Я тихо стояла, все мое внимание было поглощено движениями пальцев моей учительницы. Вдруг я почувствовала минутную растерянность, как будто что-то забыла. Затем меня пронзило внезапное откровение − я поняла тайну языка, я поняла, что это такое. Я поняла, что «в-о-д-а» означает то самое приятное ощущение, которое мне передавалось через руку. Живое слово обуяло мою душу, давая ей свет и радость, делая меня свободной. Я отошла от колодца, обуреваемая жаждой учиться. Все имело свое имя, а каждое имя возбуждало новую мысль. Когда мы вернулись домой, любой подвернувшийся мне предмет казался наделенным жизнью. Я видела все происходящее, освещенное светом, который сама же и излучала».13
Елена Келлер прожила полноценную и наполненную жизнь. Она первая из такого рода обделенных природой людей закончила обычный колледж (это было трудное испытание ее воли и характера), стала бороться за права женщин и писать книги. Она опубликовала 12 книг и множество статей, дружила с Марком Твеном и другими выдающимися людьми своего времени. Елена Келлер умерла в 1961 году, а спустя три года была посмертно награждена Президентской медалью Свободы, одной из высших гражданских наград в США.
Любой знак, а не только слова, порождаются подобным же образом и выполняют ту же функцию «крещения, приобщения к жизни» своих референтов, вещей и событий, которые знаки призваны обозначать. Процесс семиозиса длителен и не всегда завершается победоносно. Его особенностям и посвящена настоящая глава.
Как происходит наделение знака значениями?«Прежде всего, научайся каждую вещь называть ее име-
нем, это самая первая и важнейшая из всех наук».
Из Пифагоровых законов и нравственных правил14
Наделение объекта именем может происходить случайным образом. Человек, сталкивающийся с тем или иным предметом либо явлением, до того ему неизвестным, может использовать первый пришедший ему на ум звук (или слово). Так, по-видимому, начинали говорить наши предки, создававшие языки. Однако такие первые звуки или слова еще не были знаками. Чтобы превратить их в знаки, да еще в знаки, которые должны были составить законченную знаковую систему, нужно было принять в расчет множество различных обстоятельств. Какие же это обстоятельства?
Ответить на этот вопрос помогает нам теория Чарльза Морриса. Чарльз Вильям Моррис (1901 − 1979) поначалу был инженером, но потом увлекся психологией и сделал себе имя в этой новой для него области. В начале 30-х годов прошлого столетия возник интерес к теории знаков, которую инициировал Чарльз Пирс. По этому вопросу Моррис написал книгу и издал ее в 1938 г.15 В ней автор предложил подходить к семиозису с трех сторон: семантической, синтаксической и прагматической. Под семантическим подходом имелись в виду связи между знаком и его референтом. Под синтаксической стороной имелись в виду связи между знаками в рамках используемой знаковой системы, а под прагматикой − отношение к знаку его интерпретатора, то есть человека. Работа Морриса вошла в золотой фонд семиотики, и ее используют без особых оговорок все семиотики.
Я буду излагать свои взгляды, которые соответствуют взглядам Морриса, ниже в этой главе, а здесь мне хочется остановиться лишь на одном из затронутых вопросов, который не решен до сих пор и который постоянно занимает семиотиков еще и в наши дни. Вопрос заключается в следующем: нужно ли причислить к создателям и интерпретаторам знаков только человека либо эту прерогативу можно распространить на иные живые существа? Моррис высказался по этому поводу несколько неопределенно: «Реакция на вещи через посредничество знаков является с биологической точки зрения продолжением того же процесса, в котором восприятие на расстоянии начинает в поведении высших животных преобладать над восприятием в условиях обязательного контакта. Такие животные с помощью зрения, слуха и обоняния уже реагируют на отдаленные части окружения под влиянием определенных свойств объектов, функционирующих как знаки других свойств. Этот процесс учета все более и более отдаленного окружения прямо переходит в сложные процессы симбиоза, ставшие возможными благодаря языку, когда учитываемый объект уже не должен обязательно наличествовать в восприятии».16
Мне представляется, что в этой цитате Моррис привязывает демаркационную линию между человеком и животными в восприятии знаков к появлению языка, который является чисто человеческим достоянием. Ни у одного вида живых существ нет языковых знаков в нашем понимании этого термина, не говоря уже о системах записи и формализованных символических системах знаков, которые много более абстрактны, чем знаки языка. Таким образом, если первые ступени семиотических знаков у нас в чем-то очень отдаленном похожи на знаки, которые создают и воспринимают высшие животные, то продвинутые ступени этой лестницы для животных недоступны. Поэтому относить животных, а тем более растения, которые. кстати, тоже реагируют на знаки, к субъектам семиозиса я бы не стал. Да, они тоже реагируют на знаки в рамках (которые весьма ограничены), заданных природой, либо научаются распознавать некоторое количество знаков после длительной тренировки, но они не могут их сознательно создавать, а тем более передавать по наследству.
Человек же способен на такие действия и выполняет их с удовольствием, что отличает его от всех иных живых существ. Как же это происходит?
Наделение вещей/событий именами собственнымиКак я уже отмечал раньше, имена собственные присваиваются только уникальным объектам. Такие объекты получают свойственное только им имя, выделяющее и отличающее их от всех иных аналогичных предметов. Прежде всего, имя собственное получают люди, как только они появляются на свет. Имена людей имеют несколько специфических характеристик − они зачастую оказываются одинаковыми у нескольких представителей какой-то одной человеческой общности. Это происходит потому, что людей очень много, а выбор имен обычно ограничен какой-либо принятой в данной общине традицией. В этом случае личностная принадлежность имени подчеркивается его дополнениями (в русском варианте − отчеством и фамилией).
У евреев, например, принято давать детям имена так называемых «праотцов нации»: Авраам, Моисей, Сарра, Рахель, Дебора и др. У европейских народов популярными стали имена, которые заранее присваивали его носителю какое-то положительное качество: например, для девочек Августа (лат.) − священная, Аврора (лат.) − утренняя заря, Агата (греч.) − добрая; а для мальчиков выбирали имена по христианской традиции: Илиодор − дар солнца (греч.), Натанэль − данный Богом (ивр.).
Присвоение личного имени в настоящее время имеет очень давнюю традицию, но также откликается на текущие события. В России, например, до революции 1917 года имена давались по святцам, где они были собраны и объяснены. Имена давались при крещении младенца в церкви и сопровождались обрядовыми церемониями. После революции ситуация изменилась коренным образом: имена младенцы получают в ЗАГСах (Отдел записей гражданского состояния). Сами имена отражают изменившийся социальный ландшафт. Так, у девочек популярными стали имена Авро́ра (но уже по названию крейсера «Аврора»), Сталúна − по имени правившего вождя, Гвозди́ка − от названия цветка, ставшего одним из революционных символов («красная гвоздика»). У мальчиков: Инду́стрий − от нарицательного существительного или Мара́т − по фамилии французского революционного деятеля Жан-Поля Марата (это имя распространено у мусульманских народов бывшего СССР).
Иногда из списка совершенно конвенциональных имен выбираются такие, которые как бы берут под свое покровительство человека его носящего. Так, Виктор переводится с латыни как “победитель”, а София − с греческого как “мудрость”. Поэтому они часто присваиваются младенцам, придавая им соответствующий ореол, хотя бы только в глазах родителей.
Поскольку родители не знают, какие качества в дальнейшем разовьются у их ребенка, они дают ему имя наугад. У некоторых народов существует более разумный обычай по мере роста человека присваивать ему подходящее и “говорящее” имя. У американских индейцев было принято менять имя по мере взросления человека и появления у него тех или иных качеств. Отличившимся в охоте или в бою давали новое имя, говорившее о его подвигах, скажем, Ванбли Ваштэ − “хороший орел” или Гэхедж − “главный”. Но этот обычай встречается редко, и данное при рождении имя обычно остается у человека на всю жизнь. Зато по мере взросления у человека появляются дополнительные пометки, например, в паспорте, удостоверяющем его личность, помимо имени собственного, появляются имена родителей, место и время рождения, семейный и социальный статус и пр. Таким образом к имени присоединяются еще некоторые определения для более точной идентификации данного лица.
Именами собственными наделяются не только люди, но и домашние животные, которые обозначаются еще как питомцы либо домашние любимцы (pets). Все остальные животные обычно не получают кличек, разве что в зоопарках либо в заповедниках, где с ними работают биологи. Присвоение кличек животным происходит абсолютно свободно по желанию человека, который с ними взаимодействует. Кроме этого, именами собственными называют все географические объекты на Земле либо на небесных телах. Иногда имена собственные присваиваются неодушевленным предметам − горам, рекам, населенным пунктам, достопримечательностям и другим уникальным предметам. Например, “Большой Бертой” была названа пушка, которая стреляла на огромные для того времени расстояния и из которой немцы обстреливали Париж во время прусско-французской войны 1870-1871 гг.
Этот пласт имен создается абсолютно произвольно, хотя и в этих случаях применяется несколько негласно существующих правил. Географические имена в ряде случаев воспроизводят имена их первооткрывателей: великий норвежский полярный исследователь Руал Амундсен (1872 − 1928) удостоился чести быть упомянутым в названиях моря в Тихом океане, горы в Восточной Антарктиде, залива около берегов Канады и котловины в Северном Ледовитом океане.
Особо следует отметить названия лунных объектов, уже известных ученым. Эти названия утверждаются специальным научным центром, чтобы предотвратить предстоящие споры о том, кому будут принадлежать разные территории Луны: «В каталоге “Номенклатурный ряд названий лунного рельефа” приведены 1933 названия деталей рельефа Луны на русском и латинском языках. Каталог построен на основе справочника именованных лунных объектов, утвержденного Международным Астрономическим Союзом (МАС)».
Названия даны следующим типам лунного рельефа: альбедо (характеристика диффузной отражательной способности частей поверхности), цепочки кратеров, кратеры, гряды, озера, моря, океан, пики, горы, болота, равнины, мысы, борозды, сбросы. «В колонках 5, 6, 7 каталога приведены биографические сведения о великих ученых и деятелях науки, чьи имена увековечены в названиях лунных объектов. Указаны их государственная принадлежность, область деятельности, период жизни. В графе «область деятельности» отмечены также лауреаты Нобелевской премии».17
Имена собственные присутствуют и среди терминов той или иной области науки. Скажем, имя Ома запечатлено в физике как единица сопротивления в электрических цепях, а имя Менделеева появляется в его таблице в виде названия менделевий одного из химических элементов (3-я группа, 7-й период таблицы, его символ − Md). Вообще, многие номенклатурные списки составлены исключительно из символов имен собственных, например, список всех химических элементов, аббревиатуры учреждений, фондов, банков и пр.