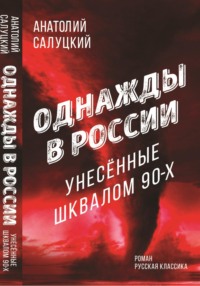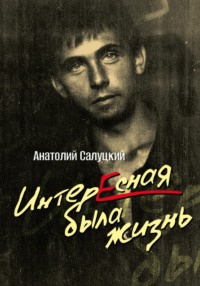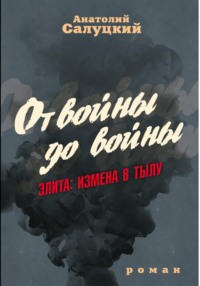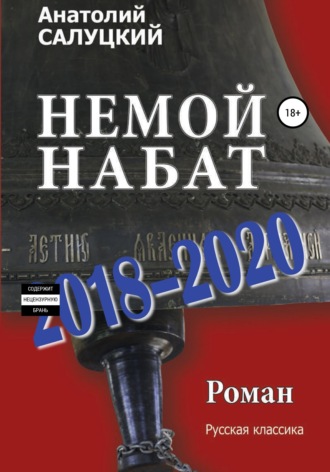 полная версия
полная версияНемой набат. 2018-2020
После взрыва эмоций Людмила Петровна взяла себя в руки и в лекционном режиме приступила к подробным пояснениям:
– Виктор, чтобы восполнить этот пробел в вашей исторической эрудиции, точнее, по литературно-политической части, начну… Ну, не издалека, а как бы со стороны. После филфака МГУ я работала литконсультантом в журнале «Советский Союз» – по договорам. И сполна дышала воздухом той интереснейшей эпохи, которую сейчас, из политических видов, толкуют превратно, примитивно, по́шло. Главный редактор журнала поэт Николай Грибачёв был кандидатом в члены ЦК КПСС, в журнале работал разжалованный бывший главред «Известий» зять Хрущёва Алексей Аджубей, сохранивший неформальные связи в верхушке ЦК. В общем, мы были посвящены во многие подцензурные тонкости тех лет. Помнится, в ту пору выходили мемуары маршалов о Великой Отечественной войне, и там впервые после хрущёвских разоблачений культа личности начали упоминать Сталина. А в ЦК в те годы Агитпропом ведал будущий архитектор перестройки Александр Яковлев. И знаете, что он сказал, Виктор? Вы не поверите, Яковлев несколько раз говорил в связи с маршальскими мемуарами: «Надо вернуть народу имя Сталина!»
– Не может быть! Он же был главным антисталинистом! – непроизвольно воскликнул Донцов.
– В перестроечные годы, в перестроечные, – улыбнулась Людмила Петровна. – А на рубеже семидесятых, наоборот, был главным официальным сталинистом, приветствуя мемуары, превозносившие Сталина. Неисповедимы пути Господни… Но извините, я отвлеклась, уж очень интересная была эпоха, мы сгорали от увлечённости литературно-общественной жизнью. Ну как же! Шёл увлекательный кулачный бой между «Новым миром» Твардовского и «Октябрём» Кочетова. Литературные журналы – нарасхват, тиражи огромные, в каждом номере что-то горячее, зачастую «кипяток».
– Людмилочка, извини, я перебью, – остановил супругу Михаил Сергеевич. – Понимаете, Виктор, сегодня можно свободно излагать любые точки зрения. Но обратите внимание, в обществе совершенно нет серьёзной полемики – только обоюдная злая ругань. Каждый говорит или пишет для единоверцев, мнения не пересекаются, не искрят дискуссиями. Кстати, то же, к сожалению, в экономической науке, мы с вами об этом говорили. Кудрин, друг Путина, и Глазьев, помощник Путина, – каждый толкует о своём, но диспута нет. В сфере экономических идей конкуренция не допускается, Путину навязали видимость безальтернативности… А в ту действительно интереснейшую эпоху, – права Людмила Петровна! – позиции скрещивались публично, хотя порой и с оргвыводами, как было с Твардовским. Но ведь его не посадили. Если не ошибаюсь, Трифоновича просто вывели из какого-то престижного партийного органа.
Донцова так увлекла интрига с неизвестным ему Кочетовым, что он попытался вернуть разговор в изначальное русло:
– Простите, Людмила Петровна, но хотелось бы узнать подробности о романе с таким запоминающимся заголовком: «Чего же ты хочешь?» Почему вокруг него было столько противоречий, круговерти? Из-за чего сыр-бор?
– Хм-м… – хитровато хмыкнул Михаил Сергеевич, выжидательно глядя на супругу.
Людмила Петровна удобно откинулась на мягкую спинку стула, скрестила руки на груди и начала рассказ, потрясший Донцова. Она словно открывала перед Виктором пласты прежней русской жизни.
– Да, Виктор, роман вызвал литературно-политическую бурю. В тот период интеллигенция была расколота по тому же разлому, что и сейчас. Но прав Михаил Сергеевич: сегодня нет ничего, кроме взаимных оскорблений или замалчивания «чужих» точек зрения, а тогда шла ожесточённая публичная полемика. На роман Кочетова даже пародии писали, причём – это уж совсем удивительно! – и те, кого мы сейчас называем либералами, и те, кого ныне причисляют к охранителям. Потому что от Кочетова всем досталось – и правым и левым.
Донцову не терпелось прояснить суть столь громкого, как он понял, по-своему исторического романа, и Виктор хотел вновь вкинуть вопрос, но Людмила Петровна жестом остановила его.
– Одну минуту, Виктор, сейчас скажу главное: о чём роман. – Вдруг умолкла, задумавшись, и начала в новой эмоциональной тональности: – О чём! Написан полвека назад, а я рискну сказать, что Кочетов изобразил сегодняшний день. Судите сами. Сюжет простой: в СССР, как бы нелегально, под иными «вывесками», приезжает группа идеологических диверсантов с целью… Ну, у них много целей: развенчание Сталина, нравственное разложение общества, поругание русских святынь и духовных ценностей, разрушение русского мира, насаждение культа вещей, накопительства, инфантилизация художественной интеллигенции. А по-крупному, обобщённо – победа над русской жизнью, расшатывание системы, её предварительный демонтаж. И была перед той группой идеологических диверсантов поставлена задача: всех, кто не согласен с такой реформацией советской системы, заклеймить словом «сталинист». Это было опубликовано в 1969 году!
– И теперь скажите, дорогой Виктор, – возбуждённо ворвался Михаил Сергеевич, – разве это не сегодняшний день? Разве не свершилось всё, о чём предостерегал Кочетов в шестьдесят девятом? Разве не прибыли к нам на постой эскадроны троянских коней, чего он опасался? Словно гаргульи с собора Парижской Богоматери, гротескная нечисть. – Рассмеялся. – Знаете, как я в шутку называю нынешний этап духовного развития? Прекращение наращения развращений! Смешно, вычурно, однако точно: развращений-то не убывает. Многое, очень многое происходит именно по Кочетову.
– Миша, «Чего же ты хочешь?» не случайно называли романом предупреждением. Книга разоблачала попытку идеологической диверсии и предсказывала губительную для страны активность пятой колонны, зародившейся в питательной среде хрущёвской мечты о колбасном рае. Я прекрасно помню терминологию того периода – именно в таких терминах одна из споривших сторон говорила о том, что написал Кочетов. Разумеется, без колбасного рая. Зато другая вела себя совершенно иначе. Роман уподобили китайской революции хунвейбинов, сравнивали с «Бесами» – кстати, на мой-то взгляд, сравнение почётное, – называли пасквилем, чернящим наше общество, писали коллективные письма Брежневу, утверждая, будто Кочетов выступает против партийной линии, требовали исключить его из Союза писателей за клевету. Между прочим, все дожившие до перестройки участники травли Кочетова – я же знаю фамилии тех лет! – в девяностые годы аргументами своих судеб доказали правду кочетовского романа. Все встроились в пятую колонну! Словно часослов и псалтырь, зубрили непрезентабельные зады западного бытования, как говорится, самое подспинье. А единственным, кто публично вступился за Кочетова, был Шолохов, написавший Брежневу об идеологических диверсантах.
Людмила Петровна перевела дух и продолжила с той же страстностью:
– Как профессиональный филолог я тоже была увлечена критикой романа – как не поддаться громкому хору? Но, Виктор, только до тех пор, пока в какой-то газете не прочитала выдержку из рецензии в «Нью-Йорк таймс», которую, само собой, обратили против Кочетова. Даже сейчас могу воспроизвести её почти дословно, потому что там сильна смысловая часть, а смыслы хорошо запоминаются. Американцы писали: Всеволод Кочетов, редактор главного консервативного журнала в СССР, написал роман, в котором герои с любовью смотрят в сталинские времена, а злодеи – это советские либералы, совращённые западными идеями и товарами, их автор называет антисталинистами. Прочитав эти заокеанские оценки, – надо сказать, очень точные, здравые, – я задумалась. А уж сегодня-то! Действительно, роман-предупреждение! Но самое печальное, по моему мнению, что он и ныне остаётся злободневным. Снова идеологические диверсии, разрушающие русские воззрения, и опять конечно же под видом блага и прогресса. И никакого отпора! А это не в традициях русской мысли. Знающим людям известно, что в своё время князь Щербатов подал царю особую записку «О повреждении нравов в России». Да и Кочетов напрямую предупреждал партийных бонз о грозящей опасности, призывал держать руку на пульсе реальной жизни, согласовывая духовные, ну, по-советски – идейные перемены с народным разумением. Но сейчас духовную сферу отдали в аренду погубителям русских нравственных традиций. Этого и опасался Кочетов. Он сумел опознать в тревогах того времени предбудущий день. Это как раз то, чего остро не хватает нынешним кремлёвским насельникам, самозванно заполучившим роль камердинеров Путина.
Михаил Сергеевич снова не удержался, прервал:
– Против Кочетова выступила и группа академиков. Любопытно, это были те же люди, которые потом подписали знаменитое письмо против Сахарова. Против! Да, кстати! В 1969 году ведь и Солженицына выслали. Ну и времечко было!
– Так вот, я и не могу усвоить, что в те времена происходило! – воскликнул Донцов. – Солженицына высылают, а Кочетова, который диаметрально противоположен, не издают. И в обоих случаях, насколько я понимаю, решает тогдашний главный идеолог Суслов.
– О! – тоже воскликнула Людмила Петровна. – В том-то и дело, что роман «Чего же ты хочешь?» стал прямым укором Суслову за слабую идеологию, а критики романа фактически Суслова и защищали. Роман прочитала вся партийная верхушка, его восприняли как удар по Суслову, и… Виктор, Господь иногда низвергает своих ангелов. Главный идеолог запретил обсуждение романа в печати. Появилась одна-единственная рецензия в «Литгазете» с мыслью, что в Советском Союзе растёт идейно здоровая молодёжь и, мол, незачем наводить тень на плетень. Виктор, я же находилась в гуще тех споров. Знающие люди говорили, что секретарь ЦК Демичев, второй идеолог после Суслова, назвал роман антипартийным и добавил, что читал его в сортире.
– Да, поистине легендарный роман! – как бы подвёл итог профессор. – Сюжет: путешествие по России, простите, в ту пору по СССР, бригады западных пропагандистов. Но попал не в бровь, а в глаз не только закопёрщикам пятой колонны, но и Суслову. И вот что любопытно: именно критиканы Кочетова доказали, что крайности сходятся.
– Неужели ни разу не издали отдельной книгой? – не уставал удивляться Донцов.
– Ни разу! – твёрдо ответил Михаил Сергеевич. Но Людмила Петровна мягко поправила:
– Миша, я же упоминала, в Минске издали, но весь тираж был, по сути, конфискован. Я несколько лет назад смотрела в Интернете, там роман Кочетова жаждут купить многие, огромный спрос. А книг нет. Между прочим, в 1989 году вышло собрание сочинений Кочетова, однако «Чего же ты хочешь?» в нём не было, цензура запретила. Но это как раз понятно: перестройка, прогнозы писателя начали сбываться в полной мере; очень опасный для того времени роман, прямой наводкой бил по Горбачёву и Яковлеву.
– А меня, Виктор, поражает, что при горячем коммерческом спросе в наши дни ни одно издательство не опубликовало этот роман. Не рискует! Хотя цензуры вроде нет. Не случайно вы ничего не слышали о Кочетове.
– Миша, несколько лет назад «Чего же ты хочешь?» отважно напечатала «Роман-газета». Но у неё теперь тираж небольшой.
– Несколько лет назад можно было. А сегодня это слишком рискованно. Сегодня даже премию Литгазеты «Дельвиг» закрыли. Ну, не закрыли, а перестали финансировать, теперь ведь цензуру через финансы вернули – в обход закона. Напечатал крамолу – с точки зрения власти, – ни грантов, ни субсидий не получишь и вылетишь с рынка.
– Да, хорошая была премия: «За верность слову и отечеству»… Но я, Миша, о другом. Всеволод… Всеволод… Как же его отчество? Забыла… А, Всеволод Анисимович Кочетов, конечно, совершил гражданский подвиг, – не грех напомнить сие ещё раз, – написав произведение редчайшего жанра, идейный роман. И жить этому роману, как историческому документу эпохи, многие веки. Кстати, Виктор, знаете, где похоронили Кочетова? В главном нашем некрополе, на Новодевичьем, не так уж далеко от Гоголя.
– А когда он умер?
– Не умер. В 1973 году застрелился. Сколько по этому поводу визгу было! Одни кричали, что его затравили, другие болтали, будто он разочаровался в своих идеях, сам себя загнал в тупики жизни. Лично я в те времена слышала от одного из будущих суперактивных прорабов перестройки публичное и, на мой взгляд, чрезмерно злорадное пыхтение, что Кочетов, извините за моветон, но я цитирую, мол, посмел задрать ногу на высшую партийную власть, – ну, вы понимаете, как кобель, – и от испуга потом сам себя наказал. На самом же деле, – теперь это общеизвестно, – у него был рак, и он мужественно свёл счёты с жизнью. Вообще, человек был мужественный, с провидческим даром.
Чай давно остыл, и Людмила Петровна на красочном жостовском подносе унесла чашки на кухню, чтобы освободить их для свежей заварки.
– Да-а, в нашем возрасте очень тянет на воспоминания, – задумчиво произнёс профессор. – Есть известное присловье: «В России надо жить долго». А ведь на самом-то деле эта расхожая шутка фиксирует особенности нашей новой и новейшей истории. Среди мировых держав нет другого государства, которое в ХХ веке и в нынешнее время столь часто трясло бы от властных перипетий. Возьмите Германию. Там первая половина прошлого столетия была бурной, но потом всё успокоилось. На Западе государственная жизнь вообще стабильна, да и на востоке тоже. Если, конечно, не учитывать военные катастрофы. А в России очередной лидер вечно приносит с собой перемены государственного бытования. Не говорю, кстати, о волюнтаристской, временной, на период «царствования», смене и упразднении часовых поясов, что для миллионов людей вовсе не мелочь. Но каждый раз меняется и сама атмосфера жизни. Чтобы понять вектор исторического движения России воистину надо жить долго.
– Зато есть что вспомнить! – шутливо отозвался Донцов.
– О-о, не говорите! Людмила Петровна иногда накрывает этот стол празднично, мы с ней пригубляем по две-три рюмочки коньяка и предаёмся воспоминаниям. Сами дивимся, сколько интереснейших, судьбоносных событий уместилось на нашем веку. Ведь мы уже давно золотую свадьбу справили, с 1959 года вместе. А познакомились, знаете, как? Совершенно случайно, как говорится, Бог свёл. Она один-единственный раз запорхнула на заседание кружка Щедровицкого, который я некоторое время посещал. Увидел её и влюбился по уши. Нас только вечный сон разлучит.
– Уж и не помню, как я к щедровитянам попала, – вступила в разговор вошедшая в гостиную Людмила Петровна. – Но точно: один-единственный раз у них была. Сути не ухватила, и сама атмосфера пришлась не по душе. Щедровицкий всех перебивает, разговор сугубо умозрительный, от жизни абсолютно оторванный.
– Философы! – веско сказал Михаил Сергеевич.
– Знаю, что философы. Я только что филологический закончила, мы с филфаковцами дружны были. Но у щедровитян я как раз философских подходов не ощутила. Может, от того, что мимоходом к ним заскочила. Они в то время считались модными, много шуму вокруг них витало, вот я и клюнула на приманку. Но они же методологи, это – в моём понимании, – нижний этаж философии. Разочаровалась, зато со своим гением познакомилась. – Указала на мужа. – А как он красиво ухаживал! Устоять было невозможно.
– Да, там методологи собрались, – разъяснил профессор. – Я по образованию технарь, но как раз методология в широком смысле меня в то время интересовала.
– Но ты тоже быстро устал от этих щедровитян, я же помню.
Донцов не схватывал, о чём они говорят. Михаил Сергеевич заметил его растерянность, спохватился:
– Людмилочка, мы с тобой ударились в воспоминания, а нашему гостю они невдомёк. Невежливо!
– Да, за этим прекрасным чаепитием я познаю много нового. О романе Кочетова ничего не знал. О щедровитянах тоже слышу впервые. Это что-то вроде инопланетян?
Михаил Сергеевич раскатисто рассмеялся.
– Очень удачная шутка! Именно что-то вроде инопланетян – с моей точки зрения, конечно.
Но Людмила Петровна не разделила весёлого настроения супруга, сказала с мимолётной гримасой:
– Было бы смешно, если б не вышло так печально.
– Сегодня, уважаемая Людмила Петровна, вы устроили мне вечер загадок, – вежливо улыбнулся Донцов. – Чувствую по вашему настроению, что с этими неизвестными мне щедровитянами тоже не всё просто.
– Не всё просто! – эхом отозвалась Людмила Петровна, и в её тоне послышались предосудительные нотки. – Виктор, сложнее некуда, вот как всё повернулось. Но это не моя тема. Пусть Михаил Сергеевич вас просветит, он полностью в курсе.
Профессор демонстративно почесал в затылке, давая понять, что раздумывает над предложением супруги. Потом неуверенно переспросил:
– Людмилочка, да нужно ли ворошить эту тему?
– Нужно, нужно! Виктору очень полезно ориентироваться в этих вопросах. Ты же слышал, как он удивился, услышав о сталинизме Александра Яковлева на рубеже семидесятых годов. А уж история со Щедровицким вообще сегодняшняя. – Вдруг лукаво улыбнулась и подначила мужа. – Миша, дорогой, ты просто обязан просвещать людей новых поколений.
Получив разрешение на грани приказания обогатить эрудицию гостя, профессор, как показалось Донцову, с облегчением вздохнул и с удовольствием ринулся в новую тему:
– Во-первых, дорогой Виктор, необходимо объяснить, кто такой Щедровицкий. Это философ-методолог, основавший свою школу. Некоторые почитатели уподобляют его чуть ли не Платону и Архимеду, что указывает на ажиотаж, раздутый вокруг его имени. А оппоненты, наоборот, берут слова «философская школа» в кавычки, отказывая учёному во владении чистым знанием, признавая за ним только умение манипулировать сознанием людей с помощью специфической фразеологии – так называемый «птичий язык» Щедровицкого, – всевозможных графиков, схем, и считая его отпетым политтехнологом.
– Начало, надо сказать, увлекательное, – улыбнулся Донцов, попивая душистый чай. – Кстати, если я верно понял, Щедровицкий священнодействовал ещё в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Но в те времена, опять же согласно моим представлениям, самого понятия политтехнологии не существовало. Во всяком случае, в СССР.
– Понимаете ли, Виктор, история нашей общественной мысли весьма витиевата. Школу Щедровицкого, которая, между прочим, сперва называлась логической и лишь потом стала методологической, основал – как вы думаете, кто? Никогда не догадаетесь! Главный антисталинисттого периода – в научном мире, разумеется, – философ Александр Зиновьев, впоследствии, как известно, ставший ярым антизападником, остроумно заметившим, что понятие «западник» произрастает от слова «западня». Зиновьев был логиком, потому и школа сперва считалась логической.
– Миша, Миша, – вдруг прервала профессора Людмила Петровна, – я понимаю, это к теме не относится, но умоляю тебя, расскажи про Зиновьева. Как получилось, что он уехал на Запад. Потрясающая история! Я сама с удовольствием ещё раз послушаю.
– О-о, это действительно замечательная история, которую мне рассказал один академик. А ему её поведал другой академик, непосредственный участник тех событий – Виктор Григорьевич Афанасьев, крупный философ, потом главный редактор газеты «Правда», а в прошлом – военный лётчик. Его, кстати, сняли с должности по требованию прорабов перестройки за то, что он перепечатал статью какого-то итальянца о том, как пьянствовал за границей Ельцин. Такой вой поднялся, что ой-ой-ой. Нет, когда ударяешься в воспоминания, можно забрести неизвестно куда, сплошные кстати на кстати… Так вот, Афанасьев был главредом «Правды», очень хорошо знал своего предшественника, секретаря ЦК Зимянина, и был близким другом Зиновьева. Он всё и рассказал. Зиновьев, помимо того, что был выдающимся философом, ещё и обладал уникальным даром художника: рисовал потрясающие карикатуры. И будучи оппонентом партийной власти, сделал очень злые карикатуры на членов Политбюро. Они попали к Суслову, который рассвирепел и велел Зимянину Зиновьева наказать. А как наказать? Зимянин вызвал главреда «Правды» и говорит: «Твой дружок чёрт знает что нарисовал. Что с ним делать?» Афанасьев отвечает: «Он давно просит, чтобы его пустили за границу читать лекции. Давайте отпустим, тогда избавимся от этого нарыва». Зимянин на это и рассчитывал. Но говорит: «Я внесу такое предложение на секретариате ЦК, но имей в виду, отпускаем его под твою персональную ответственность. Чтобы он за границей не писал пасквили на советскую власть. Согласен?» Конечно, Афанасьев согласился, хотя прекрасно знал неудержимость Зиновьева. Вот так за одного крупного философа поручился другой крупный философ.
– Михаил Сергеевич, как вы знаете, по базовому образованию я тоже технарь. Однако всегда тяготел к такого рода историко-философским преданиям. Правда, пока не разумею, какие смыслы кроются за рассказом о щедровитянах, но, поверьте, мне безумно интересно.
– Какие смыслы! – в уже знакомой манере воскликнула Людмила Петровна. – Миша, он спрашивает, какие смыслы!
Профессор развёл руками, жестом комментируя восклицания супруги, и продолжил:
– По мнению некоторых, школа Щедровицкого выродилась в своеобразный клон… – сделал паузу, – секты саентологов небезызвестного Рона Хаббарда. Смысл вот в чём: на Западе процветала саентология, а для социалистической системы она была приспособлена под видом методологии Щедровицкого. В обеих случаях особое внимание уделялось так называемым практикам управления, а что касается идеологии и нравственных принципов, то они – побоку. Хочу повторить, дорогой Виктор, таково мнение оппонентов Щедровицкого. Хотя у них есть веские аргументы: и саентологи и методологи по-щедровицки главным «орудием» переформатирования сознания управленцев считают одитинг, а по-русски – организационно-деятельные игры, кратко – ОДИ.
– Минуточку, Михаил Сергеевич, – прервал Донцов, – у меня такое ощущение, что об ОДИ, об организационно-деятельных играх я где-то слышал, не могу, правда, вспомнить, по какому поводу.
– Ещё бы не слышать! – в своей загадочной манере, даже с вызовом, комментировала Людмила Петровна.
– Я ещё вернусь к вашим ощущениям, – кивнул головой профессор. – Но сначала напомню, что упомянутые ОДИ, по сути, являют собой широко распахнутые окна Овертона, побуждая участников игр сперва примириться с сомнением относительно каких-то спорных, парадоксальных постулатов, а затем, внедряя их в сознание, превратить эти сомнения в новые принципы. Эта методика называется «погружением»: людей изолировали от реальности, скажем, в каком-либо пансионате класса «люкс», разбивали на группы, принуждали к диалогу и проводили над их сознанием «ментальные операции» посредством другой методики – допущений. Причём «допускали» такие задачи, которые без учителей-методологов решить невозможно. Чтобы не углубляться в теорию, приведу конкретный пример, почерпнутый из научного журнала. В годы перестройки методологи Щедровицкого провели в Иркутске ОДИ, где допустили – в игре допустить можно что угодно, хоть воскресение из небытия, – отмену СССР. В тех ОДИ принимали участие партийные и советские начальники, которые сначала пришли в ужас от постановки вопроса. Но им объяснили, что идёт игра, речь лишь о некоем допущении, идеологические и политические опасения сняты. Как быть и как жить в условиях распада СССР? Понятно, сами участники игры на такие вопросы ответить не могли. И учителя в процессе игры предложили им варианты номенклатурного поведения в этой кризисной ситуации. В финале участники ОДИ должны были отказаться от личного опыта и воспринять позицию учителей. У группы, которая подстраивалась под рекомендации наиболее успешно, появлялись карьерные перспективы. После того семинара «по переподготовке кадров» местное руководство примирилось с мыслью о возможном трагическом развитии событий, репетиционно опробовав новые роли в новых обстоятельствах. Предательство по отношению к государству стало выглядеть лишь «организационной технологией». Не исключаю, что среди обкатанных вариантов было «переформатирование» партийных секретарей в бизнесменов. Так методологи Щедровицкого распад СССР сделали «пристрелянной мишенью». Его готовили загодя, через ОДИ, распахивая окна Овертона. И обо всём этом победно повествовали в научных журналах середины девяностых годов.
– Михаил Сергеевич, я вас слушаю с ужасом.
– Но именно так, Виктор, всё и происходило, именно так методологи Щедровицкого «освежали», точнее, программировали номенклатурные головы, о чём, повторяю, в девяностых годах, с гордостью писали, подчёркивая особую роль в разрушении коммунистической системы. Через «метод допущений» вбрасывали любую диаволиаду – от искусственно спровоцированных конфликтов между руководителями до норм, драматически нарушавших нравственные законы общества и установления народной морали. Допущения! Допустим, у вас четыре руки, – как вы поведёте себя на ринге? На деле речь шла о внушении людям мысли, что после курса методологии они стали обладателями некой скрытой от общества истины и теперь вправе указывать всем, «как надо» делать, жить и так далее. Так работает методологический инкубатор.
– Миша, всё-таки скажи ясно и внятно о целях методологов, – требовательно попросила Людмила Петровна, явно дирижируя «своим гением».
– Видите, Виктор, она всего лишь один раз побывала на семинаре Щедровицкого, к тому же ровно шестьдесят – шестьдесят! – лет назад, а до сути его методологии докопалась.