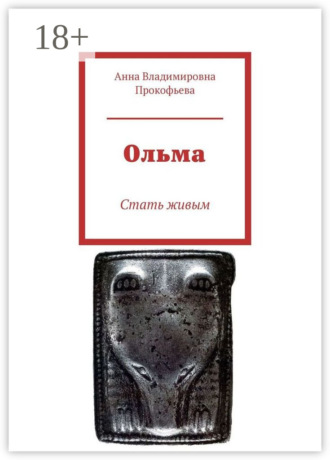
Полная версия
Ольма. Стать живым
– А ты почём знаешь каковы они? – встрепенулся мальчишка. – Обнимался с ними что ль?
– Не, я с ними не миловался, но мужики баяли… – фыркнул Ольма, – А я с Томшой токма пообниматься успел… Да когда это было, эх… Ладно! Нам не эти пигалицы нужны, а сама хозяйка березовой рощи – берегинино дерево. Пошли. Поползли, то есть. Нет! Ты – пошли, а я – поползли, – совсем запутался Ольма.
Они пробирались средь высоких папоротников и трав все глубже в березняк. И, вот, среди изумрудной и прозрачной тени берез, вдалеке яркими всполохами заблестела вода. А перед друзьями открылась широкая поляна, посредине которой, почти у кромки воды, в окружении молодых тонких красавиц берёз, стояла старая, почерневшая от времени, мать березовой рощи. Её длинные плакучие ветки свисали до самой земли, образовывая большой изумрудный шатер.
Огромное, могучее дерево тенью своей листвы закрывало весь затин поляны, а среди ее вислых ветвей, можно было бы заблудиться. Раздвигая прозрачные зеленые занавеси они пробирались к центру поляны, где, не доходя до ствола шагов пятнадцати, им открылась поросшая низкой густой травой прогалина, что мягким зеленым ковром устилала все подножье старой березы. Густые колышущиеся ветки опустились у них за спиной, и они оказались как будто в огромной зеленой божнице, чей свод держал на плечах раздвоенный и потрескавшийся от старости ствол. А в развилке ствола, словно на на богатом седне, сидела девушка дивной красоты в длинной льняной рубахе. Ткань была настолько тонкой, что вовсе не скрывала красоты ее тела, а только подчеркивала ее. «Наши бабы так не ткут,» – подумалось Ольме. Невесомое полотно струилось по стройному стану, но плавные его изгибы прятались под плащом светлых с прозеленью волос, что стекали шелковистой волной с плеч и до самых пят. Босые ноги с белой жемчужною кожею дразнили и манили взгляды. В руках красавицы был гребень из резной кости, которым она медленно водила по своим волосам и вопросительно смотрела на гостей. Завороженные неземной красотой, друзья застыли было, но Ольма, будучи постарше и поопытнее, преисполнился важности и почтительно проговорил:
– Не серчай, Берегиня, что покой твой нарушили. – лёжа на земле он сделал попытку поклониться. – Делимся, чем можем. – Тут же дернул за штанину босоного Упана и прошипел, – Иди к березе подарки выкладывай, да не перепутай: сыр, хлеб и яйца. О, боги, – он закатил глаза с досадой, – мы ж яички не очистили! Девки Берегине яишню носят! Без скорлупы! – глухо бормотал сквозь зубы. – Выложи так, авось не обидится.
А сам, меж тем продолжил:
– Прими наши подарки искренние, поделись, просим, своим богатством. – Упан выставил угощение на растленное узорчатое полотенце прямо между черных узловатых корней в зеленую шелковую траву. После чего низко поклонился, как учил старый Кондый, коснувшись пальцами мягкой травы и, не удержавшись, продолжил вместо Ольмы, который хотел было вести речь дальше:
– Сытости тебе и радости, Берегиня, и вам жители лесные – травники, лешие и лесавки и всякая душа, что возле нашего шалаша. Примите наше угощение, не сердитесь за вторжение. Вместе пищу пригубим, вместе переночуем, а потом друзьями и расстанемся.
Девица бросила лелеять свои косы и, запрокинув голову, звонко расхохоталась. Просмеявшись, успокоилась и обратилась к Ольме, озорно сверкая глазами:
– Вы что же ко мне с ночевкой припожаловали? А приятель твой черновласый, побойчей тебя будет. Молодой, да ранний, вижу. И тебя тоже вижу. – Сузились строго берегинины глаза. – Где же охотник ярая сила твоя и дух горячий? Пошто с землей сливаешься, пластаешься, ввысь расти-вставать не хочешь? Раньше-то под моей березой горячи речи говорил и горячим телом траву обжигал. Да не один, а с девкой. Та трава аж от твоей страсти скручивалась-съёживалась, когда девку красную обнимал. Куда силу растерял-потратил?
Стыдно Ольме стало от слов таких, горячо щекам, а в носу от обиды защипало.
– Пошто я такой нынче, спрашиваешь? Да по дурости своей! Думаешь, мне в радость быть пыльным и холодным, да по земле пластаться?! – захлебнулся обидой и словами подавился. А Берегиня меж тем продолжила:
– То что ошибку свою признаёшь – молодец. Но в остальном – не на то жар свой скудный, оставшийся, тратишь, не на то… В другой сосуд его лить надо, а не злыми словами вокруг раскидывать… Мне-то от матушки нашей тишина, да нега досталась, я ее не трачу, но дарю… – Журчал ее голосок, – Вот, и ты не шуми понапрасну, копи силу, копи. Да дари потом… Но нынче поведай-ка лучше, зачем пожаловали, да еще и лакомство принесли для меня? – Берегиня мягкою струёй стекла с дерева и опустилась на колени около угощения.
Ольма собрался с мыслями, задвинул горячую обиду поглубже и ответил:
– Роща твоя, знамо дело священна, и попросту взять и сломить дерево в ее пределах – нехорошо это. – Берегиня, отломив кусочек сыра, благосклонно кивнула и махнула ладошкой – продолжай, мол. Ольма продолжил. – Ну, так, вот. Замыслили мы луки крепкие изготовить, березовые планки нужны. Две.
– Луки, говоришь? Оружие… Злое, кусучее… Зверя бьет-убивает, птицу ранит… – нахмурилась Берегиня. Но тут в разговор вмешался Упан:
– Послушай, Куштырма, ты ведь Кострома-Костромушка? Неужто не знаешь, что человек долго на одних травках не протянет, надо и дичь добывать…
– Знаю, ведаю. Откель имя мое верное знаешь, – мурлыкнула Берегиня, – Кто сказал? – облизнула пальцы от крошек Кострома.
– Так, вот, он и сказал, – махнул Упан рукой в сторону. – Грустная твоя история, дева.
– Не дева я простая, да и не совсем Берегиня, кое-что могу… Не только цветком ярким в лесу синеть. – И запела, – Вот трава-цветок – брат с сестрою, то Купала – да с Костромою. Братец – это желтый цвет, а сестрица – синий цвет… – журчание ее песни оборвалось и она продолжила, – Что же, благодарствую. Угощеньем порадовали, да разговором ладным. Так уж и быть – отдарюсь. Дам я вам плоти березовой. У самой матушки-березы попрошу, – прижалась щекой к грубой коре Кострома. И, вроде, только что у корней, в траве сидела, а тот же миг над Ольмой склонилась, Упан и моргнуть не успел. Склонилась, прохладной рукой по голове погладила, да быстрыми пальчиками до щекотки по спине пробежалась.
– Не тут ты сломан, милый, а вот здесь, – толкнула мягкой ладошкой в лоб, будто телка, – Коли историю мою знаешь, то и знать должон, кому Кострома является самолично. Знаешь, али нет? Молчишь? Так я поведаю. А прихожу я к тем, кто совершает ошибку, сходную с моею. Прихожу я к тем, кто стал слишком черствым, гордым, кто перестал замечать что в душе у других округ него, к тем, кто посчитал себя лучше других. А ты посчитал, ведь, верно? Провинился сам перед собой и перед обществом. И должон испытание пройти. Какое не скажу – сама не ведаю. Знаю только, что сплели Доля и Недоля нить твоей судьбы с черным сыном медведицы-девицы, и кроме планок березовых дам тебе совет глядеть на людей, что рядом, и быть добрее к ним, о них думать, а о себе забывать.
Миг, и снова она уже около древней березы, только юбка прозрачным кружевом взметнулась. Заглянула второму гостю светлыми глазами, в глаза черные, глубокие.
– А тебе, пуйка, скажу – не стриги волос, ни за что не стриги! Коли силы своей лишиться не хочешь. Не стриги и никому не позволяй. Вот тебе на память гребешок. Бери, не бойся! Не русалий он! Не приворожу. Лишь помощь от него будет тебе, коли возьмешь его. В нем сила чудесная для тебя. Причеши им кудри свои, когда деву по сердцу встретишь. Но коли забудешь о нем – беда будет! – сказала и исчезла легким ветерком, будто пушинки одуванчиков сдуло. Только среди ветвей журчал, затихая, серебряными колокольчиками смех.
А перед Ольмой в траве белели березовые планки, будто уже оструганные. Причем нужной длины и толщины.
– Ай, да, кудесница, Берегинюшка наша! Смотри, Упан, планки-то уже готовы и точно под наши луки, только склеить осталось! Кланяйся и благодари деву чудную! – И сам запричитал, – Спасибо, Куштырма, Кострома, Костромушка за подарки и за советы, вовек не забудем дружбу и помощь твою.
– Не забудем, – пробормотал Упан, разглядывая дивной работы костяной гребешок в руках. – Когда еще у меня дева появится? Может, и не будет вовсе… Кто на меня такого посмотрит?… – шептал под нос парнишка.
Они молча, не сговариваясь, отправились назад той же дорогой. Каждый был погружен в свои мысли. И только у развилки, где тропка поворачивала к веси Упан спросил:
– А дальше что? Планки есть, теперь, что потребно делать? Лук мастерить?
– Чтобы лук мастерить еще кое-чего не хватает. – Ответил Ольма.
– Чего же? – удивился Упан, – Вроде дерево добыли, только тетиву привязать и все, стреляй – не хочу!
– Ну, не скажи, елташ! «Стреляй – не хочу!» – передразнил Ольма. – До этого еще далеко, как пешком до края света…
– А где он этот край света? – встрепенулся Упан. – Там, куда солнце падает на закате?
– Солнце наше, колоколнышко не падает, а садится, опускается, закатывается за край… Да, похоже за край земли и закатывается, – почесал в затылке задумчиво Ольма. – Ты меня не сбивай! Мы про лук говорили! А про край света у своего суро спроси, Кондый мудёр, что старый ворон и про край знает, наверняка. Так, вот. Про лук. – Ольма перестал ползти, перекатился на бок и, лежа на боку, подперев голову одной рукой, стал на другой загибать пыльные пальцы, – Планка можжевеловая, планка березовая, рыбий клей, чтоб их скрепить, костяные концы, сухожилья на перед, берестяная оплетка, да роговые накладки, а еще тетиву мастерить, да стрелы. А ты говоришь «Стреляй – не хочу!» Не все так просто, мил-друг, Упанище. – Сказал и пополз было дале. Но за спиной услышал как удивленно присвистнул парнишка.
– А где все это брать?
– Да, соберем потихоньку, к осенинам луки и сладим, – не оборачиваясь ответил Ольма.
Они совсем недалеко отошли от поворота к веси, как услышали заполошный девичий визг, что доносился от реки.
– Чегой-то там такое? – вытянул шею Ольма, пытаясь разглядеть сквозь высокую траву ленту реки, – Упанка, беги глянь, а потом и я приползу, тут до воды недалече.
Темноволосый Ольмин приятель сорвался с места и сверкая пятками, побежал к реке. Когда, торопившийся изо всех сил Ольма, добрался до речного берега, то увидел плачущую и залитую слезами девчонку. Она сидела на песке, недалеко от деревянной пасьмы, с которой девки полоскали белье, а пацанята прыгали в воду. Сейчас же здесь было пустынно, не считая плачущей девчонки и растерянного, неуклюже пытающегося успокоить ее Упана.
– Что за шум, а драки нет, – бодро начал Ольма, но, увидев, что слезы девичьи и не думают высыхать, а сквозь плачь прорывается и икота, рявкнул, – Ну-ко, цыть, кукомоя! Сопли утри и поведай, кто тебя напугал?
– Дядька Ольма, – всхлипывая и икая, начала девчушка, – я… мы с Мухой к реке прибежали. Мухе жарко, пить захотела, а я за ней, думала в воду прыгнуть, жарко-о… А Муха к воде лакать, а он ее хвать, цап! Усатый огромный и склизкий и в воду утащил, Мушицу мою-у-у…
– Кто, кто утащил? Кого? – снова повысил голос Ольма.
– Со-о-ом! Муху украл, собачечку мою-у-у… Спаси ее дядька Ольма! – девчушка протерла глаза, взглянула и ойкнула, – Прости, дяденька, забыла я, что ты обезножил-то давно… Ой, кто нынче мне теперь поможет, кто мою Мушицу от сома страшного спасё-о-от?
– Куда он нырнул? – теперь уже рявкнул Упан.
– А вон туда, под корягу, – дрожащим пальцем ткнула девчонка, – где в омуте вода бурлит, видно Муха к нему в котец не хоче-е-ет! – подвывая закончила та.
Упан тут же сбросив рубаху, побежал в воду и нырнул. В темной, мутной воде ходили волны, которые еще больше поднимали ила и песка со дна реки, и буро-зеленая мгла окружила парнишку со всех сторон, грудь словно камнем придавило и мучительно захотелось вдохнуть. Он рванулся вверх, судорожно глотнул воздуха и нырнул обратно. Прямо перед ним в воде виднелось длинное скользкое тело, которое извивалось и било хвостом. Один, самый сильный шлепок прилетел Упану по щеке и лицо вмиг загорело от оплеухи. Мальчишка тут же вскипел от злости и острые звериные когти вонзились в темный скользкий бок чудовища. Отчего то разжало челюсти и его невольная лохматая жертва вырвалась на поверхность и, поскуливая, отчаянно загребая лапами устремилась к берегу. А разъярившийся Упан кромсал острыми когтями речное чудище, все ближе подбираясь к плоской усатой голове. В голове уже молоточками стучала кровь, вынуждая прекратить схватку и, вынырнув, схватить глоток живительного воздуха. Но яростная злость заставляла продолжать бой. Зарычав, заклокотав попавшей в рот водой Упан рванулся, ухватил огромную рыбину за челюсти и дернул в разные стороны. Мощное рыбье тело задергалось и затихло.
Мокрая, вся в зеленой тине лохматая собачонка выползла на берег и, виляя куцым хвостиком, ткнулась носом в хозяйкины колени. Вслед за ней из воды поднялся сгорбившись, весь в иле и зеленых водорослях горбатый и широкоплечий кто-то… Из-под низких бровей его злобно сверкали красным глаза, а могучая лапа держала за вывернутую челюсть плоскую морду речного чудища.
– Эй, Упан, друже, хорош яриться, все кончилось, не пугай малявку, – успокаивающе заговорил Ольма, – да и рыбий клей у нас будет теперь… Почти целый туес… – продолжил охотник, смерив взглядом рыбину длиною со взрослого человека.
***
Полдня почти прошло, как они притащили огромную рыбину к шалашу. Притащили и обнаружили, что нет посудины, в которой надо варить клей.
– Эй, Ольма! Я у деда в кладовке видел большущий котёл стоит и пылится. Наверное и не нужен вовсе. Давай приволоку завтра. А рыбу в листья крапивы завернем, и повесим повыше. До утра доживёт.
– Ладно кумекаешь! А чтобы время зря не терять, разделаем-ка рыбину. И нам ужин и на завтра всяко работы меньше. Кожу, жабры и плавники отдельно на лопух складывай. А мясо на кусту развесим, на солнышке завялится.
Ковырялись с рыбой долго, солнышко давно перевалило за полдень и неспешно клонилось к окоёму. Извозившийся по уши в рыбьих кишках Упан, под руководством Ольмы, торжественно извлёк из рыбьего брюха огромный рыбий пузырь, самую что ни на есть главную сокровенную часть крепкого клея. Ольма торжественно и собственноручно эту потаенную часть разрезал и растянул на палочках для просушки.
Солнце уже садилось, когда они с удовольствием уписывали нежное, запечённое на углях рыбье мясо. Липкий горячий сок тек по пальцам, губы и щеки выпачкались в золе, а в животах стало тепло от приятной сытой тяжести. Наевшись и цыкая зубом, темноволосый приятель заговорил:
– Да мы с тобой настоящие русалы, братишка! – Хмыкнул Упан, – В тине, рыбой воняем… Скоро хвосты вырастут. – И тут же дурашливо прижал руки к бокам, хлопнул ладонями по бокам и пропищал тоненько, – У русалочки рыбий хвостик, а на сердце тоска и лё-о-о-од!
– Да, помыться не помешает… Только, вот, вечереет, как бы настоящие русалки не сбежались на твои песни…
– Да, ладно, нету здеся никого! Айда мыться, а то к утру склеимся и из шалаша не вылезем. – Парнишка закинул приятеля на закорки и ухая поскакал к воде. С хохотом они плюхнулись в воду и прямо в одежде принялись плескаться на мелководье. Упан разыгрался и, представляя себя русалкой, нацепил на голову комок длинных водорослей и тоненько голося выполз на камушек у воды стал делать вид будто причесывается.
Ольма отмокал в тёплой воде, облокотившись на локти. И ему было так хорошо – он смотрел на дурачившегося Упана и на вечереющее небо, будто подкрашенное черничным соком. Солнце садилось за лес и сиреневые тени медленно ползли от леса в сторону реки. Как только их длинные темные пальцы дотянулись до зарослей камыша, что окружали Ольмову заводь, камыш еле слышно зашуршал, и около камня на котором сидел и потешно голосил Упан появилась тень сгорбленной черноволосой старухи. Она поднялась за спиной парня и прошипела:
– Пошто мой камень оседлала, девка, рыба зелёная? Твоё место на берёзах за излучиной. Здеся я власы чешу и песни пою. – И безобразная брюхатая старуха, упершись в спину Упана холодными лапами, вознамерилась столкнуть того с камня. Но черноголовый уперся и, резко развернувшись, рявкнул по медвежьи прямо в зелёную морду речной нечисти. И та, от испуга не удержалась и плюхнулась сморщенным старушечьим задом в мутную воду, после чего гнусаво захныкала:
– Что деется, что деется-то?! Оборотни в русалках ходют, у исконной речной нечисти хлеб отбираю-у-ут! Скоко себя помню, не бывало такого! Где же мне нынче власы чесать, да косы плести, да песни пе-е-еть? Как же мне шошичихе теперя быть? Набрели новые, молодые, дерзкие. А ты чего скалишься болезный? – Обратилась она уже к Ольме. – Тебе до первых холодов только жить, а дальше все – и не жить вовсе… – После этих слов шошичиха схлопотала комком водорослей по морде от Упана:
– Ты старая говори, говори, да не заговаривайся. Ольма-брат ещё тебя нечистую переживёт! Сейчас как выволоку на берег за космы чёрные, да к дереву привяжу на солнечной стороне, враз отучиться гадости говорить.
Речная бабка сжалась в комок и меленько затрепетала, задрожала от страха.
– Миленький-красивенький, не губи! Не губи, молодец! Все, что хочешь сделаю, не губи, не волоки меня на солнце, на землю сухую-у-у!
– Да, что ты можешь, старуха? Космами только трясти? Так я и сам шерстью не обделен, – и мотнул головой.
– Ну, и не такая уж я и старуха, – рисуясь поправила спутавшуюся редкую прядь шошиха. – У меня есть кое-что, припрятано, да… В камышах, у донышка, в иле мягком. Давно лежит, ешшо от прежней жилички осталося. Для твоего болезного аккурат пригодиться.
– Так тащи, чего медлишь!
Ольма, как лежал в воде, так и лежал, совершенно без страха и паники наблюдая за происходящим. За последние дни он уже устал удивляться тому, что его, казалось бы такая медленная и беспросветная жизнь калеки вдруг покатилась, как крашеное яичко с горки в светлый день.
– Думаешь, вернётся? – Спросил Упана охотник, – Не обманет, а то нырнула и ищи свищи.
– Не, не обманет, она меня боится. Я сильнее. Если что найду и выпотрошу, да на клей пущу, – хохотнул удачной шутке парень.
Пока они болтали, солнышко совсем спряталось за лесным гребнем, по траве, да по реке поплыли первые клочья тумана, а на тёмном, ясном небе заиграли первые звезды.
В камышах прибрежных снова зашуршало и к камню выбралась шошичиха.
– Вот, золотенькие-серебряные мои, вот жемчужные, вещица, аккурат вам полезная. Ему, вон… – Добавила, буркнув и выложила на камень прямо к ногам Упана ракушку, размером с голову взрослого мужика, всю поросшую водорослями и облепленную тиной.
– Что это? – нарочито хмурясь, спросил черноголовый, – Что ты притащила старая?
– А ты отвори её и глянь глянь зенками своими ясными.
Упан взялся за края створок и с натугой потянул их в разные стороны. Не пошло! Взрыкнул, взбугрился мышцами и запустил в щель тут же удлинившиеся когти. Сначала, ничего не происходило, а потом края створок медленно подались под напором сильных пальцев. Раковина распахнулась, и в трепещущей розовой плоти блестели матовым белым цветом неровные, продолговатые перловицы. Упан насчитал их ровно семь.
– И что нам с ними делать? Бусы вязать? Мы ж не девки красные. Хотя подарок знатный, благодарю.
– Зачем бусы? – усмехнулась бабка, – Увечный их проглотить должон, да не все разом, а по одной в седьмицу. От них жилы, да кости крепнут, как камень крепки будут, крепче железа. Правда, перловицы только в воде живут, посему надо их в воде держать, причем, дай памяти, из трех ключей взятой, тогда чудо свершится и ноги твои, касатик, окрепнут, – зыркнула в сторону Ольмы шошиха. – А теперь, золотой-серебряный, камушек-от ослобони, мне ещё до рассвета дел переделать надо, косы расчесать, да заплести, да песен попеть… – проскрипела шошиха.
Упан слез с камня держа в руках раковину. Шошичиха тут же забралась на камень, с кряхтением угнездилась и стала перебирать свалявшиеся тёмные космы, тоненько и скрипуче, но очень неразборчиво, подвывая в такт.
Бредя по щиколотку в воде, парнишка подошёл к лежащему в воде Ольме и сказал, вздохнув:
– Давай, глотай что ли…
– С чего это, – вдруг вскинулся, будто очнувшийся от сна Ольма. – Не буду я ничего глотать, может, это отрава? Съем и помру!
– А тебе не все ли равно, – непонятно отчего устало пробормотал Упан. А из-за его спины, от камня, раздалось скрипуче-напевное:
– Ты, паря, долго раковину-то не держи голыми руками, она с тебя силу сосёт. Потому повторяю, надо сии перловицы в живую воду положить, чтоб они силой живой воды питались, а не твоими, человечьими, или не человечьими, кто знат?.. – добавила с сомнением в голосе, престарелая нечисть.
– Чего лопочешь, бабка? – с натугой повернулся парень и, как будто с трудом ворочая языком, произнес Упан.
– Брось в воду речную её, – вдруг рявкнула грубым басом уродливая нечисть, – брось! Да беги воду у трех родников собирай, а не то волшебство закончится. Закончится, как только луна скроется! И станут энти перловицы только на бусы годными, – уже еле слышно добавила шошичиха.
Упан выронил раковину и та с громким бульком плюхнулась прямо у ног болезного охотника. Сил как-то сразу прибавилось, вдохнул свежего воздуха и шагнул из воды прочь.
Лес встретил черноголового парня мраком и тишиной. По краткому размышлению он решил добежать до избушки суро и спросить, где брать воду, из каких родников. Упан лёгким шагом потрусил в сторону болота. Он уже давно яркость лесных запахов воспринимал, как само собой разумеющееся, так же, как шум листьев, скрип деревьев и пение птиц.
Лес жил и дышал глубоко и ароматно. Высокие тёмные стволы обступили тропинку, как будто в ночи деревья шагнули ближе на шаг к утоптанной земляной ленте. Древесные темные шершавые тела вырастали из нежного пушистого ерника, в котором шевелилась и жила разная лесная мелюзга. Еловый кожор тянулся далеко вдоль лесной дорожки. Зеленый мох укутывал мягким покрывалом и землю, и старые стволы деревьев. Сыро и сумрачно было здесь, у ног древних елей, чьи нижние веки украшало узорочье светлых мхов и лишайников.
Упан уже успел добежать до той поляны, где он вместе с Ольмой добывал можжевельник для лука. В сумерках влажно блеснула темная маслянистая вода древнего колодца. Парнишка остановился, как вкопанный, озаренный догадкой. «А вот и первый ключ! Только набрать не во что…» – парнишка принялся обшаривать поляну вокруг колодца. И был вознагражден. В густой траве кто-то оставил глубокую деревянную мису. Быстренько отряхнул ее от сора и зачерпнул воды. И мелко перебирая ногами засеменил по тропинке дальше, стараясь не разлить драгоценную жидкость. Время от времени зыркал вверх, ловя глазами яркий лик луны.
Добравшись до избушки суро, громко позвал:
– Дедушко Кондый, а дедушко Кондый, выйдь! – но только тишина ему была ответом. «Видимо дома нет,» – опустил плечи мальчишка. Пнул шишку с досады, а та ускакала к самому Синь-камню. Проследив полет злополучной шишки, в свете луны заметил подозрительный блеск у подножия валуна. Осторожно поставил миску на землю около лесенки, ведущей в избушку и с любопытством подошел к камню. Там среди травы струилась тоненькая струйка, постепенно впитываясь в мокрую землю. «А, вот, и второй ключ!» Он опрометью кинулся к избушке, схватил миску, упал на колени рядом с тонким ручейком и сторожко зачерпывая ладонями, бросил в посуду четыре горсти воды. «А третий у деревни. Тот, который колодец питает общественный. Проще простого, добежать, зачерпнуть и назад к Ольме. Только, вот, как не расплескать-то? Миска-то широкая, воды прибыло, расплещу, коли бежать буду, а не бежать нельзя, луна скоро скроется…» Сунулся в подклеть, и стал шарить в темноте, неловко отмахиваясь от липких нитей паутины. В дальнем углу обнаружил кучу старой берестяной посуды. Медвежьи глаза плохо видели в темноте, но острый нюх мог помочь увидеть много больше. И Упан решительно стал обнюхивать туески. Один заплесневел, второй прогнил, а вот третий пах сухой берестой, и на ощупь был целым. Выбравшись из подклети, уже в свете луны он убедился, что туесок цел, высок, да еще и под плотной крышечкой. Самое то! Перелил собранную воду в туесок, плотно закупорил крышкой. Надо быстро добежать до деревни, луна-то все ниже клонится, но на человечьих ногах так быстро не получится, но как тогда нести баклажку? Там же в подклети нашел веревку, обернул вокруг туеска и подвязал его к шее. Опустился на четвереньки, взрыкнул, и в лес по тропинке метнулось уже звериное тело, переливающееся в свете луны темным блеском пушистого меха. Перемахивая мелкие лядины и перепревшие колоды, уже бежал напрямки, сквозь густой подлесок, подступающей к селению чащи. Пока бежал, в голове ворочались дедовы слова, что тот вкладывал в голову ему, как единственному ученику: «Когда боги сотворили землю, повелели они идти ливню-дождю. Полил дождь. Тогда боги призвали птиц и дали им заделье: разносить воду во все стороны света белого. Налетели птицы – железные носы и стали исполнять повеление. И наполнились водою все низины, все овраги, все котловины, все рытвины земли. Отсюда и все воды пошли.» Туесок, с колыхавшейся в нем водой, болтался между лап и стучал по груди. Медвежонок-переярок выскочил на залитую лунным светом околицу и буквально через несколько ударов сердца, оказался у лесных ворот, но совсем забыл, что собаки не любят звериный медвежий дух. Под многоголосый собачий хор медведь обежал селенье и уже с подветренной стороны вошёл в деревню.

