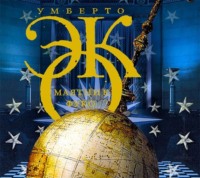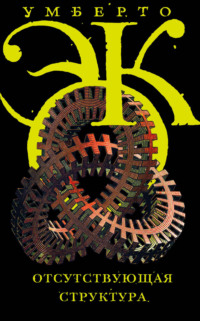Полная версия
Искусство и красота в средневековой эстетике
Сверхсущественное же прекрасное называется Красотой потому, что от него сообщается собственное для каждого очарование всему сущему; и потому, что оно – причина благоустроения и изящества всего и наподобие света излучает всем Свои делающие красивыми преподания источаемого сияния; и потому что оно всех к себе привлекает, отчего и называется красотой; и потому что оно все во всем сводит в тождество[5].
(De divinis nominibus IV, 7, 135)Ни один из комментаторов Ареопагита не может устоять перед очарованием данной картины, которая наделяет богословским достоинством естественное и спонтанное чувство, свойственное средневековому духу. Позднее Скот Эриугена разовьет концепцию космоса как Откровения Бога и выявления его несказанной красоты через красоты душевные и телесные. Божественная красота изливается на упорядоченность всего творения, на подобное и разнящееся, на согласованность родов и форм, различных порядков субстанциальных и акцидентальных причин, спаянных в чудесном единстве (De divisione naturae 3, PL 122, col. 637–638). Нет средневекового автора, который не возвращался бы к этой теме полифонии мира, причем наряду с философскими постулатами, выраженными в сдержанной манере, иной раз прорывается возглас восторженного изумления:
Cum inspexeris decorem et magnificentiam universi… invenies… ipsumque Universum esse velut canticum pulcherrimum… caeteras vero creaturas pro varietate… mira concardia consonantes, concentum mirae jucunditatis efficere.
Когда взираешь на изящество и величие вселенной… обнаруживаешь, что эта самая вселенная подобна прекраснейшей песне… [и обнаруживаешь также], что прочие твари, благодаря своему многообразию… согласующиеся в изумительной гармонии, образуют созвучие чудной прелести.
(Гильом Овернский, De anima V, 18: Opera, t. II, 2,suppl., Orleans 1674, p. 143a: Pouillon 1946, p. 272)Для того чтобы дать этому эстетическому мировосприятию более философское определение, были разработаны многочисленные категории, восходившие к триаде из Книги Премудрости Соломона: из numerus, pondus et mensura (мера, число и вес) были выведены modus, forma и ordo, substantia, species и virtus, quod constat, quod congruit и quod discernit (способ, форма и порядок, субстанция, вид и сила, состоящее, соответствующее и отличающее) и т. д. Тем не менее речь всегда шла о выражениях, не согласованных между собой и постоянно использовавшихся для определения как благости, так и красоты вещей, как, например, это видно в следующем утверждении Гильома Оксеррского:
Idem est in еа (substantia) ejus boitas et ejus pulchritudo… Penes haec tria (species, numerus, ordo), est rei pulchritudo, penes quae dicit Augustinus consistere bonitatem rei.
В субстанции сливаются ее благость и ее красота… Красота вещи берет начало в этих трех (виде, числе и порядке), в которых, согласно Августину, и состоит благость вещи.
(Summa aurea, Paris, 1500, f. 57d, 67a;ср.: Pouillon 1946, p. 266)На определенном этапе своего становления схоластика приходит к необходимости систематизировать эти категории и в конце концов дать философски строгое определение подобному эстетическому восприятию космоса, сколь распространенному, столь же и неясному, преисполненному поэтических метафор.
3.2. Трансценденталии. Филипп Канцлер
Схоластика XIII века стремится опровергнуть дуализм, который, зародившись в персидской религии манихеев и в различных гностических течениях первых веков христианства, различными путями проник к катарам и распространился среди них (особенно в Провансе). В соответствии с дуалистической ересью не только человеческая душа, но и вся вселенная является ареной борьбы двух начал: света и тьмы, добра и зла, причем оба начала являются нетварными и вечными. Иными словами, для этих ересей зло не представляет собой чего-то неожиданно привнесенного в бытие после божественного творения (ангелов и мира), но является, так сказать, первородным его изъяном, от которого страдает само Божественное.
Опасаясь, что таким образом в мире может укорениться представление об отсутствии четкого выбора между добром и злом, схоластика стремится утвердить идею благости всего творения, причем даже в тех областях бытия, которые пребывают в тени. Орудием, которое она тщательно выковывает для переоценки упомянутого взгляда на мир, является понятие трансцендентальных свойств, выступающих как conditiones concomitantes (сопутствующие условия) бытия{9}.
Если мы исходим из того, что единство, истина, благость являются не какими-то случайно, спорадически осуществляющимися ценностями, но соприродными бытию свойствами, которые входят в него на метафизическом уровне, то отсюда следует, что всякая существующая вещь является истинной, единой и благой.
В трактате Филиппа Канцлера «О благе» (Summa de bono), созданном в начале XIII века в атмосфере подобных умонастроений, мы видим первую попытку точно определить понятие трансценденталии и наметить классификацию трансценденталий на основе онтологии Аристотеля – точнее, тех замечаний, которые Стагирит делает в первой книге своей «Метафизики» относительно единого и истинного (III, 8; IV, 2; X, 2), – а также на основе выводов, к которым ранее пришли арабские мыслители, обогатив Аристотелев перечень свойств бытия понятиями res (вещь) и aliquid (нечто). Особо акцентируя внимание на bonum (благе) – новшество, возникшее в ходе полемики с манихеями XIII века, – и вдохновляясь представлениями арабов, Филипп развивает идею тождественности и взаимообратимости трансценденталий, а также их различаемости secundum rationem, согласно способу рассмотрения. Благо и бытие взаимопроникают друг в друга, однако благо в соответствии со способом его рассмотрения привносит нечто в бытие: bonum et ens convertuntur… bonum tamen abundat ratione supra ens. Благо – это бытие, рассмотренное с точки зрения его совершенства, его действенного соответствия той цели, к которой оно устремлено, подобно тому как unum (единое) есть сущее, рассматриваемое в аспекте его неделимости (Pouillon 1939).
Филипп ничего не говорит о прекрасном, но его современники, особенно в своих комментариях к Псевдо-Дионисию (под влиянием его непрестанных указаний на pulchritudo), вынуждены задаваться вопросом: не является ли и прекрасное трансценденталией? Это необходимо прежде всего для того, чтобы с помощью жестких категорий определить эстетическое мировосприятие космоса, затем на уровне трансценденталий объяснить разнообразную и сложную триадическую терминологию и, наконец, для того, чтобы придать философскую определенность уяснению связей между благим и прекрасным в соответствии с требованиями различия, характерными для схоластической методологии. Средневековая чувствительность реанимирует – в контексте христианской духовности – греческое понятие калокагатии, двуединства (прекрасного и благого), указывающего на гармоническое сопряжение физической красоты и добродетели. Однако философ-схоластик хочет со всей ясностью определить, в чем заключается это тождество двух ценностей и насколько они самостоятельны.
Если прекрасное представляет собой устойчивое свойство всего бытия, то красота космоса основывается на метафизической определенности, а не на простом чувстве поэтического восхищения. Однако требование различения трансценденталий secundum rationem побуждает определить, при каких условиях бытие можно рассматривать как прекрасное, выявляя, таким образом, в сфере единства названных ценностей условия автономного существования ценности эстетической.
3.3. Комментарии к Псевдо-Дионисию
Данная дискуссия имеет важное значение, ибо позволяет понять, что в определенный момент философия почувствовала необходимость обратиться к критическому рассмотрению проблемы эстетического. Поначалу Средневековье, хотя оно и рассуждало о прекрасных вещах и красоте всего сущего, довольно пассивно относилось к идее развития специальных категорий на сей счет. В этой связи интересно посмотреть, каким образом переводчики греческого текста Псевдо-Дионисия передавали понятия (прекрасное) и (прекрасный). В 827 году Илдуин, первый переводчик Дионисия, обращаясь к 7-му разделу IV главы трактата «О божественных именах» и понимая как онтологическую благость, дает следующий перевод:
Bonum autem et bonitas non divisibiliter dicitur ad unum omnia consummante causa… bonum quidem esse dicimus quod bonitati participat…
Ho доброта и благо не разделяются в причине, все сополагающей в единое… Мы называем добрым то, что причастно благому.
Три столетия спустя Иоанн Сарацин переведет тот же отрывок таким образом:
Pulchrum autem et pulchritudo non sunt dividenda in causa quae in uno tota comprehendit… Pulchrum quidem esse dicimus quod participat pulchritudine…
Прекрасное и красоту не должно разделять в причине, которая все вбирает в единое… Мы называем прекрасным то, что причастно красоте…
(Dyonisiaca, p. 178–179)По словам де Бройна, между переводами Илдуина и Иоанна Сарацина простирается целый мир. И речь идет не только о мире вероучительном, не только о более углубленной интерпретации Дионисиева текста. Временной отрезок, разделяющий переводы Илдуина и Иоанна Сарацина, – это конец эпохи варварства, «Каролингское возрождение», гуманизм Алкуина и Рабана Мавра; преодоление страхов, связанных с наступлением тысячелетия; новое ощущение жизни как ценности; развитие феодализма и возникновение городских цеховых коммун; первые Крестовые походы; оживление торговли; великие паломнические пути в Сантьяго-де-Компостела; первый расцвет готики. Развитие эстетического восприятия идет параллельно расширению ойкумены, рука об руку со стремлением упорядочить новое мировосприятие в рамках богословского вероучения.
В упомянутый период интеграция понятия красоты в сферу трансценденталий уже осуществляется по-разному. Так, Отлох Санкт-Эммерамский в начале XI века приписывает фундаментальную особенность прекрасного, а именно consonantia (созвучие) каждому творению: consonantia ergo habetur in omni creatura, созвучие встречается во всяком создании (Dialogus de tribus quaestionibus, PL 146, col. 120).
Под знаком подобных представлений будут формироваться различные теории космического порядка и музыкальной структуры вселенной (о чем будет сказано ниже), так что в XIII веке, используя терминологию, подготовленную такими исследованиями, как труды Филиппа Канцлера, схоласты с немалым тщанием и строгостью станут разрабатывать точные категории и выяснять отношения между ними.
3.4. Гильом Овернский и Роберт Гроссетест
В 1228 году в своем «Трактате о благе и зле» (Tractatus de bono et malo) Гильом из Оверни рассматривает красоту благородного поступка и отмечает, что как физическая красота есть нечто приятное для созерцающего (интересное утверждение, к которому мы еще вернемся), так и красота внутренняя есть нечто, доставляющее наслаждение душе того, кто прозревает эту красоту, и вызывающее любовь. Благость, которую обнаруживаем в душе человека, мы именуем красотой и изяществом по аналогии с внешней видимой красотой (pulchritudinem seu decorem ex comparatione exterioris et visibilis pulchritudinis). Гильом уравнивает между собой нравственную красоту и honestum (честность, порядочность). Совершенно очевидно, что в данном случае он восходит к стоикам, Цицерону и Августину (возможно, и к «Риторике» Аристотеля, для которого «прекрасное есть то, что предпочтительно и похвально само по себе, или то, что, будучи хорошим, приятно, потому что хорошо» (Rhetorica 1, 9, 1366 а 33). Тем не менее, заостряя внимание на данном отождествлении, Гильом не углубляется в эту проблему (см.: Pouillon 1946, р. 315–316).
В 1242 году Фома Сен-Викторский (Фома Верчелльский) завершает свое «Толкование» (Explanatio) «Дионисийского свода» (Corpus Dionysianum) и возвращается к упомянутому уподоблению прекрасного благому. Незадолго до наступления 1243 года Роберт Гроссетест в своем комментарии к Дионисию, наделяя Бога именованием Красоты (Pulchritudo), подчеркивает:
Si igitur omnia communiter bonum pulchrum «appetunt», idem est bonum et pulchrum.
Итак, если всё сообща желает благого и прекрасного, благое и прекрасное есть одно и то же.
Однако он добавляет, что если два именования объединяются в объективной природе той или иной вещи (и в единстве Бога, чьи имена являют благотворные творческие процессы, исходящие от Него к творениям Его), благое и прекрасное diversa sunt ratione (различны по способу рассмотрения):
Bonum enim dicitur Deus secundum quod omnia adducit in esse et bene esse et promovet et consummat et conservai, pulchrum autem dicitur in quantum omnia sibi ipsis et ad invicem in sui identitate facit concordia.
Ибо Бога называют благим, поскольку Он все приводит к бытию и благобытию, поскольку все это Он влечет, и совершает, и сохраняет, прекрасным же Его называют, поскольку Он производит согласие среди всех вещей и внутри каждой из них сообразно ее виду.
(Pouillon 1946, р. 321)Бог именуется благим, поскольку Он наделяет все вещи существованием и поддерживает их в бытии, прекрасным же Он именуется потому, что предстает как упорядочивающая причина всего сотворенного. Итак, мы видим, каким образом метод, использованный Филиппом для разграничения единого (unum) и истинного (verum), Роберт использует для разграничения pulchrum и bonum.
3.5. «Сумма брата Александра» (Summa fratris Alexandri) и св. Бонавентура
Однако есть и другой принципиально важный текст, который в законченном виде появился только в 1245 году, но который Гроссетест мог знать и раньше. Речь идет об упомянутой «Сумме» Александра Гэльского, произведении трех францисканцев: Иоанна из Ла-Рошели, затем столь же мало известного брата Консидеранса и самого Александра. Здесь проблема трансцендентности прекрасного и его отличия от благого решается вполне определенно.
Иоанн из Ла-Рошели задается вопросом, si secundum intentionem idem sunt pulchrum et bonum, то есть не являются ли прекрасное и благое тождественными согласно интенции. Под intentio он понимает обращенность человека к рассматриваемой им вещи, и здесь чувствуется новая постановка вопроса. Действительно, тот факт, что прекрасное (pulchrum) и благое (bonum) оказываются тождественными в самом предмете рассмотрения, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся и ссылается на слова Августина, для которого honestum уподобляется умопостигаемой красоте. Тем не менее благо (насколько оно совпадает с honestum) и прекрасное – не одно и то же.
Nam pulchrum dicit dispositionem boni secundum quod est placitum apprehensioni, bonum vero respicit dispositionem secundum quam delectat affectionem.
Ибо прекрасное представляет собой благое, представленное так, чтобы оно было приятно для постижения, благое же, в свою очередь, предстает так, что радует чувство.
(Summa theologica, ed. Quarecchi I, 103)Если благое относится к конечной причине, то прекрасное относится к причине формальной. И действительно, прилагательное speciosus восходит к species, forma (вид, обличье, внешняя красота). Эту идею мы находим уже у Плотина («Эннеады» 1, 6, 2; 8, 3; 11,4, 1) и у Августина («Об истинной религии», De vera religione 40, 20). Таким образом, в «Сумме брата Александра» под «формой» понимается Аристотелева форма. На этом новом основании и утверждается красота вселенной. Истинное, благое, прекрасное (как, в свою очередь и еще более доходчиво, поясняет брат Консидеранс) взаимопроницают друг друга и различаются логически (ratione). Истина – это расположение формы по отношению к внутренней структуре вещи, красота – это ее расположение по отношению к структуре внешней.
Наряду с многими другими положениями этот текст содержит весьма интересные моменты, отличающие его от текста Роберта Гроссетеста (на первый взгляд аналогичного содержания). Для Роберта благое и прекрасное логически отличаются друг от друга в глазах Бога и в ходе усложнения процесса творения. В «Сумме брата Александра», напротив, различение рациональное (ratione) скорее оборачивается различением по устремленности (intentione). Красота вещи определяется через ее отношение к познающему субъекту. Более того, если для Роберта Гроссетеста благое и прекрасное все-таки всегда остаются божественными именами и сущностно отождествляются в лоне вездесущего единства жизни, то в «Сумме» обе эти ценности, напротив, основываются прежде всего на конкретной форме вещи.
Похоже, что с учетом всего сказанного отпадает необходимость со всей определенностью заносить прекрасное в разряд трансценденталий. В «Сумме» троих францисканцев этот вопрос не решается в силу обычной осторожности, с которой схоластики отказывались apertis verbis (напрямую, в открытую) заявлять о каком бы то ни было новшестве в философии. И в дальнейшем все философы в большей или меньшей степени будут столь же осмотрительны.
На этом фоне весьма дерзновенным представляется решение, которое в 1250 году предложил св. Бонавентура в небольшом, почти незамеченном труде{10}. Там он недвусмысленно называет четыре условия бытия, а именно unum, verum, bonum и pulchrum, и объясняет их взаимопроникновение и различие. Единое относится к действующей причине, истинное – к формальной, благое – к целевой, прекрасное же circuit omnem causam et est commune ad ista… respicit communiter omnem causam (объемлет всяческую причину и причастно ей… [прекрасное] в целом относится к любой причине). Итак, перед нами самобытное определение прекрасного как сияния собранных воедино трансценденталий, если воспользоваться выражением некоторых современных исследователей схоластики, которые, однако, не упоминали об этом тексте (ср.: Maritain 1920, р. 183; Marc 1951).
Однако сколь бы интересной ни представлялась формула св. Бонавентуры, «Сумма» Александра Гэльского содержит более решительные нововведения, пусть и не слишком бросающиеся в глаза. Двум тезисам, четко сформулированным в этом тексте (прекрасное основывается на форме вещи; характерной чертой прекрасного является особого рода восприятие его, в ходе которого оно связывается с познающим субъектом), было суждено вновь с успехом заявить о себе.
3.6. Альберт Великий
Первый из указанных тезисов рассматривает в своем комментарии к IV главе трактата Псевдо-Дионисия «О божественных именах» (De divinis nominibus) Альберт Великий. Этот комментарий под названием «О прекрасном и благом» (De pulchro et bono) долгое время относили к числу малых произведений (Opuscula) св. Фомы{11}. Альберт возвращается к тому различию, которое было сделано в «Сумме брата Александра».
Illud [bonum] accidit pulchro, secundum quod est in eodem subiecto in quod est bonum… differunt autem ratione… bonum separatur a «pulchro secundum intentionem».
Оно [благое] присуще прекрасному, поскольку пребывает в том же, в чем находится и благое… различаются же они тем, как их понимает разум… благое отличается от прекрасного согласно устремленности.
(Super Dionysium de divinis nominibus IV, 72 e 86,Opera omnia XXXVII / l.p. 182 e 191)Затем он дает свое знаменитое образцовое определение:
Ratio pulchri in universali consistit in resplendentia formae super partes materiae proportionatas vel super diversas vires vel actiones.
Всеобщее определение прекрасного состоит в блеске формы над соразмерными частями материи или над различными силами или действиями.
(Super Dionysium de divinis nominibus IV, 72Opera omnia XXXVII / l, p. 182)При таком подходе прекрасное на метафизическом уровне становится поистине свойством любого существа, а красота вселенной – объективным фактом, независимым от поэтических восторгов. В любом существе можно усмотреть красоту как блеск формы, которая наделила его жизнью, формы, которая упорядочила материю согласно законам пропорции и сияет в ней наподобие света, явленного тем упорядоченным субстратом, который раскрывает упорядочивающее действие формы.
Pulchritudo consistit in componentibus Sicut in materialibus, sed in resplendentia formae, Sicut in formali; sicut ad pulchritudinem corporis requiritur, quod sit proportio debita membrorum et quod color supersplendeat eis… ita ad rationem universalis pulchritudinis exigitur proportio aliqualium ad invicem vel partium vel principiorum vel quorumcumque quibus supersplendeat claritas formae.
Красота заключается в слагаемых [прекрасного предмета], если речь идет о материи, но [она заключается] и в блеске формы, когда дело касается формальной стороны; [следовательно], подобно тому как от красоты телесной требуется, чтобы наличествовала должная соразмерность членов и чтобы над ними сиял цвет… всеобщая сущность красоты требует взаимной соразмерности того, что равнозначно [членам тела], будь то части, начала или что-либо еще, над чем сияет ясность формы.
(Super Dionysium de divinis nominibus IV, 72 e 76,Opera omnia XXXVII / 1, p. 182–183, 185).Здесь эмпирические понятия красоты, унаследованные от различных традиций, слагаются в картину, вдохновленную Аристотелевым гилеморфизмом (этот момент важен и для понимания эстетики св. Фомы). Форма (μορφή) сополагается с материей (ύλη), чтобы вдохнуть жизнь в конкретную и обособленную субстанцию. С точки зрения Альберта, именно в контексте гилеморфизма все восходящие к Книге Премудрости триады получают мирное разрешение: действительно, modus, species и ordo (способ, вид и порядок), а также numerus, pondus и mensura (число, вес и мера) становятся предикатами реальности формы. Совершенство, прекрасное, благое основываются на форме, и для того чтобы некая вещь сделалась благой и совершенной, она должна иметь все те характеристики, которые предваряют форму и следуют ей. Форма предполагает определение той или иной сущности согласно способу (modus) (а следовательно, согласно мере – mensura – и пропорции), заключает ее в пределы какого-либо вида в соответствии с определенным количеством составных элементов, то есть в соответствии с числом (numerus), в качестве же деяния, через определенную наклонность или вес (pondus), направляет ее к ее собственной цели, к должному порядку (ordo){12}.
Тем не менее концепция, предлагаемая Альбертом, несмотря на всю ее четкость и прогрессивность, не считает конститутивным признаком прекрасного (в его собственном ratio) его соотнесенность с действием познающего субъекта (о чем, напротив, говорилось в «Сумме брата Александра»). Таким образом, концепция Альберта представляет собой строго объективистскую эстетику, где прекрасное вообще не определяется secundum notitiam sui ab aliis, то есть согласно его восприятию другими. Более того, в пику этой формулировке из трактата Цицерона De officiis («Об обязанностях») Альберт утверждает, что, например, добродетель обладает определенной ясностью (claritas) в себе самой, благодаря чему сияет как нечто прекрасное, даже если никто ее не воспринимает (etiamsi a nullo cognoscatur). Notitia ab aliis (восприятие другими), настаивает Альберт, не определяет формы объективным образом в отличие от claritas, ясности, блеска, который ей присущ (Super Dionysium IV, 76, p. 185). Красота может открыться в этом блеске, но данная возможность является дополнительной, а не определяющей.
Различие весьма существенное. Наряду с метафизическим объективизмом, для которого красота является свойством вещей и сияет объективно, без какого бы то ни было – стимулирующего или запретительного – воздействия человека, существует и другой вид объективизма, для которого прекрасное хотя и остается трансцендентным свойством бытия, но являет себя в том отношении, в котором человек сосредотачивается на предмете sub ratione pulchri (с точки зрения его красоты). Именно ко второму типу и относится объективизм св. Фомы. Нельзя сказать, что св. Фома намеренно и с полным осознанием своего критического подхода разрабатывает теорию прекрасного с притязанием на самобытность. Однако усваиваемые и включаемые им в свою систему традиционные элементы приобретают в общем контексте вполне теоретический вид. По существу, схоластические системы (и томистская система в этом смысле, несомненно, является наиболее полной и обоснованной моделью) мы можем представлять как огромный электронный мозг ante litteram: после того как все связи упорядочены, можно получить исчерпывающий ответ на любой вопрос, который в этот мозг вводится. Разумеется, ответ окажется окончательным и удовлетворительным только в пределах данной логики и данного способа понимания реальных связей: сумма – это электронный мозг, мыслящий по-средневековому. Тем не менее он мыслит и дает ответ даже в тех случаях, когда его автор не предвидел заранее всех импликаций того или иного понятия. Поэтому эстетическая традиция Средневековья развивает ряд таких тем, как математическое понятие красоты, метафизическая эстетика света, психология восприятия, представление о форме как сиянии и причине наслаждения. Только когда эти темы предстанут перед нами в своем развитии, когда мы увидим, как на протяжении столетий они вновь и вновь подвергались обсуждению, мы сможем лучше понять, на какой стадии созревания они доходят до XIII века и как вписываются в систему (томистскую), которая резюмирует поставленные проблемы и предложенные решения.