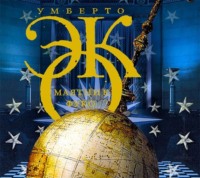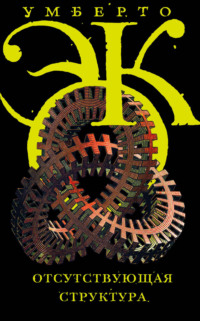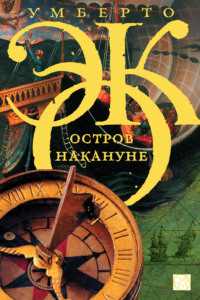Полная версия
Искусство и красота в средневековой эстетике

Умберто Эко
Искусство и красота в средневековой эстетике
© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 1987–2010
© А. Шурбелев, перевод на русский язык, 2003
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО “Издательство АСТ”, 2014
Издательство CORPUS ®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
1. Введение
Эта книга представляет собой краткий очерк истории эстетических теорий, разработанных культурой латинского Средневековья в период с VI по XV век. Однако использованные в предыдущей фразе понятия, в свою очередь, сами нуждаются в определении.
Очерк. Речь идет не об исследовании, притязающем на самобытность, а скорее о кратком изложении и систематизации осуществленных ранее разработок, среди которых можно назвать и нашу монографию, посвященную эстетике Фомы Аквинского (1956). Прежде всего следует отметить, что у автора не зародилась бы идея этого очерка, если бы в 1946 году не увидели свет два основополагающих труда по средневековой эстетике, а именно Études d’esthétique médiévale Эдгара де Бройна и сборник текстов о метафизике прекрасного, составленный Д. Пуйоном. На мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что все, написанное ранее двух вышеуказанных работ, отличается неполнотой, а все авторы, писавшие на эту тему после де Бройна и Пуйона, учитывают их опыт{1}[1]. Данная книга является именно кратким очерком и ориентирована не только на специалиста, но и на читателя, не искушенного в средневековой философии или истории эстетики. Именно поэтому все латинские цитаты – а их в тексте немало – сразу же даются в пересказе, если они кратки, или переводятся, если пространны{2}.
История. Данный очерк носит исторический, а не теоретический характер. Смысл нашей работы – мы вернемся к этому в конце книги – заключается в том, чтобы дать представление об определенной эпохе, а не внести философский вклад в современное определение эстетики, постановку ее проблем и их решение. Этого уточнения должно было бы хватить и хватило бы, если бы речь шла об эстетике классицизма или барокко. Но коль скоро, начиная с прошлого века, в средневековую философию старались вдохнуть новую жизнь, стремясь представить ее как философию вечную (philosophia perennis), любое рассуждение о ней в обязательном порядке должно сопровождаться основательным разъяснением своих собственных философских предпосылок. Поэтому уточняю: данное исследование по эстетике Средневековья так же стремится постичь определенную историческую эпоху, как к этому стремилось бы исследование греческой или барочной эстетики. Естественно, наше обращение к данной эпохе предполагает, что мы находим ее интересной и считаем достойной более глубокого изучения.
История эстетических теорий. Именно потому, что речь идет об историческом очерке, мы не стремимся в терминах, приемлемых для сегодняшнего дня, дать очередное определение теории эстетики. Мы исходим из самого широкого понимания этого термина, которое учитывает все случаи, когда та или иная теория представляется или признается как эстетическая. Таким образом, мы будем понимать под эстетической теорией любую цепочку умозаключений, которая, притязая на определенную систематичность и прибегая к использованию философских понятий, рассматривает те или иные явления, касающиеся красоты, искусства и условий создания и оценки произведений искусства, отношений между искусством и другими видами деятельности, а также искусством и нравственностью. В том числе явления, предполагающие рассмотрение задач художника, понятий приятного, декоративного, стиля, суждений о вкусе, а также критики этих суждений, теорий и различных видов практики истолкования текстов, как вербальных, так и невербальных, то есть проблем герменевтики (принимая во внимание, что герменевтика пересекается с проблемами, названными выше, даже если – как в основном и случалось в Средние века – она затрагивает не только явления собственно эстетического порядка).
Представляется предпочтительным не исходить из современного определения эстетики и затем выяснять, отвечала ли ему минувшая эпоха (именно такой подход и стал причиной появления наименее удачных книг по истории эстетики), но начать с определения, которое было бы максимально синкретичным и широким, а потом перейти к рассмотрению интересующей нас проблематики. Действуя таким образом (вслед за рядом других исследователей), мы старались по мере возможности соединить собственно теоретические рассуждения с анализом всех тех текстов, которые, даже если они и были написаны без какого-либо стремления к систематическому изложению (например, замечания теоретиков риторики, сочинения мистиков, коллекционеров искусства, педагогов, энциклопедистов или толкователей Священного Писания), тем не менее отражают философские идеи своей эпохи или оказывают на них влияние. Точно так же, по мере возможности и не претендуя на полноту, мы стремились выявить эстетические идеи, определяющие различные аспекты повседневной жизни, а также эволюцию форм и художественных приемов.
Латинское Средневековье. В Средние века теоретические рассуждения, как философские, так и богословские, велись на латыни, так что схоластическое Средневековье – это эпоха латинского языка. Когда авторы теоретических трактатов переходят на народный язык, мы, пусть и в нарушение хронологии, уже оказываемся в значительной мере за пределами Средневековья. В этом очерке будут рассмотрены эстетические понятия латинского Средневековья, другие же явления – поэзия трубадуров, «Новый сладостный стиль», Данте (хотя для Данте сделаны существенные оговорки, особенно в последней главе) и тем более его последователи – будут затронуты лишь мимоходом. Хотелось бы отметить, что в Италии Данте, Петрарку и Боккаччо привыкли относить к Средневековью, (отсчитывая Ренессанс от момента открытия Колумбом Америки), тогда как во многих других странах их относят к началу Возрождения. С другой стороны, словно бы для восстановления равновесия, те же авторы, кто относит Петрарку к Возрождению, вписывают в «осень Средневековья» бургундскую, фламандскую и немецкую культуру XV века (то есть современников Пико делла Мирандолы, Леона Альберти и Альда Мануция).
В то же время само понятие «Средневековье» определить довольно трудно. Вполне прозрачная этимология этого термина говорит о том, что он был изначально призван вобрать в себя тот тысячелетний период, которому никак не удавалось найти достойное место, ведь это тысячелетие оказалось на середине пути между двумя блистательными эпохами, одной из которых очень гордились, а по другой очень скучали.
Среди многочисленных обвинений, выдвинутых против этой якобы лишенной собственного лица эпохи (не считая ее пресловутой «срединности»), был и упрек в отсутствии эстетической чувствительности. Сейчас мы не будем обсуждать этот вопрос, поскольку последующее изложение как раз и призвано исправить это ложное впечатление: из заключительной главы станет ясно, что к XV веку эстетическая чувствительность сильно изменилась, чем, собственно, можно объяснить, если не оправдать, существование занавеса, скрывавшего средневековую эстетику. Однако понятие «Средние века» озадачивает и по другим причинам.
Как получается, что под одним ярлыком объединяются столь разнящиеся между собой периоды? С одной стороны – период, простирающийся от падения Римской империи и до «Каролингского возрождения». Период, когда Европа переживает самые ужасные за всю свою историю политические и религиозные, демографические и аграрные, урбанистические и лингвистические кризисы (список можно было бы продолжить). С другой стороны – период последовавшего за тысячным годом возрождения, то есть время первой промышленной революции, время, когда начинают формироваться национальные языки и современные нации, зарождается демократия коммун, появляются банки, векселя и система двойного учета; когда подлинную революцию переживают системы наземных и морских перевозок, способы обработки земли, ремесленные приемы; когда изобретается компас, стрельчатый свод, а под конец – порох и печать. Как все это совместить с эпохой, когда арабы переводят Аристотеля и занимаются медициной и астрономией, в то время как Европа к востоку от Испании все-таки пока что не может гордиться своей культурой (хотя «варварские» столетия уже остались позади)?
Между тем частичная ответственность за эту десятивековую мешанину лежит и на средневековой культуре, которая избрала (или была вынуждена избрать) латинский язык как lingua franca, Библию как книгу книг, святоотеческую традицию как единственное свидетельство классической культуры и занялась комментированием комментариев и цитированием авторитетных формул, будто сама была неспособна изобрести что-либо новое. На самом деле это не так: средневековая культура обладает чувством нового, но стремится скрыть это новое под завесой повторений (в отличие от современной культуры, которая, напротив, делает вид, что она изобретает нечто новое, даже когда на самом деле лишь повторяет уже известное).
Определять, когда же все-таки говорится нечто новое (говорится там, где человек Средневековья старается убедить нас, что он просто повторяет ранее сказанное), – тяжелый труд, которого не избежать и тому, кто решил заняться историей эстетических идей. Чтобы сделать его не столь тяжким (по крайней мере для читателя), в нашем очерке будут изложены эстетические проблемы, а не воссозданы портреты тех или иных авторов. При портретировании легко впасть в заблуждение и счесть, что любой мыслитель – поскольку он использует термины и формулы, к которым уже прибегали его предшественники, – продолжает говорить об уже известном (чтобы убедиться в обратном, нам пришлось бы воссоздать отдельные системы одну за другой). Если же мы излагаем сами проблемы, то нам легче (в рамках краткого обзора, когда на десять веков отведено менее двухсот страниц) проследить историю некоторых формулировок и выяснить, каким образом они, то незаметно, а то и вполне явно, меняют свой смысл, причем так, что в конце концов мы начинаем понимать, что совершенно затертое выражение, например forma, поначалу использовалось для указания на нечто, лежащее на поверхности, а впоследствии – на нечто, сокрытое в глубине.
Поэтому, даже признавая, что некоторые проблемы и решения не претерпевали изменений, мы обычно предпочитаем указывать на моменты развития, трансформации, рискуя при этом впасть в характерный для историографов грех (который мы позволим себе покритиковать в конце книги) – считать, что эстетическая мысль Средневековья постоянно «улучшается». Конечно, средневековая эстетика претерпела определенное развитие, ведь от довольно-таки некритического цитирования представлений об идеях, косвенным образом воспринятых ею от Античности, ей удается прийти к таким шедеврам строгой систематики, как суммы (summae) XIII века. Однако если фантастические этимологические изыскания Исидора Севильского вызывают у нас улыбку, а Уильям Оккам, напротив, заставляет вникать в рассуждения, насыщенные такими формальными тонкостями, которые поныне являются твердым орешком для логиков, то это не означает, что Боэций менее проницателен, чем Дунс Скот (даже если первый и жил восемью веками раньше второго).
История, которую мы намерены проследить, сложна, преемственность сочетается в ней со скачкообразным развитием и разрывами. В немалой степени это все-таки история преемственности, потому что Средневековье – эпоха авторов, без ссылок копировавших один другого, а также потому, что в эпоху рукописной культуры, когда рукописи были не слишком доступными, копирование представляло собой единственный путь к калькуляции идей. Никто не считал это преступлением, часто многократное копирование приводило к полному забвению истинного автора той или иной формулы. В конце концов, считалось, что, если идея истинна, то она принадлежит всем.
Однако эта история имеет и свои яркие моменты. Правда, они не сродни тому фурору, который вызвала картезианская формула «я мыслю» (cogito). Маритен заметил, что только начиная с Декарта мыслитель предстает как «дебютант в области абсолюта» и после него все философы стремятся, в свою очередь, дебютировать на совершенно новых подмостках. Люди Средневековья так не актерствовали, они считали, что оригинальность – грех гордыни (с другой стороны, не следует забывать, что в ту эпоху ставить под сомнение установившуюся традицию было рискованно, причем не только в академическом плане). Однако и Средневековье (указываем на это обстоятельство на тот случай, если найдется кто-либо, о нем не ведающий) было способно на высокие мысли и гениальные прозрения.
2. Эстетическое мировосприятие Средневековья
2.1. Эстетические интересы средневекового человека
Значительную часть своей эстетической проблематики Средневековье унаследовало от классической древности, причем оно наделило эти темы новым смыслом, соотнеся их с характерным для христианского мировосприятия осознанием человека, мира и божественного. Другие свои категории оно унаследовало от библейской и святоотеческой традиции, но всегда стремилось к тому, чтобы поместить их в философский контекст, заданный новым сознанием, склонным к систематизации. Таким образом, своему эстетическому умозрению оно придавало бесспорно самобытный вид. Однако усвоенные из указанных источников темы, проблемы и выводы можно было понять и как некий поток слов, воспринятый по инерции и не вызывающий действительного отклика ни у авторов, ни у читателей. Как уже отмечалось в научной литературе, классическая древность, обсуждая эстетические проблемы и вырабатывая каноны художественного творчества, обращалась к природе, тогда как Средневековье, обращаясь к тем же самым темам, основывалось на классической древности. В каком-то смысле вся средневековая культура на деле представляет собой не столько размышление о реальности, сколько комментарий к определенной культурной традиции.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Здесь и далее см. примечания автора в фигурных скобках.
Комментарии
1
Вполне понятно, что за последние сорок лет многие тексты, которые Пуйон и де Бройн прочитали в рукописи или в несовершенных публикациях, стали предметом критических изданий. Кроме того, увидели свет новые тексты. С другой стороны, грустно осознавать тот факт, что, во всяком случае, упомянутые Études больше (и довольно давно) не находятся в обращении. Еще, наверное, можно отыскать в книжных магазинах испанский перевод, опубликованный в 1958 г. мадридским издательством Gredos. Позднее, в 1947 г., де Бройн опубликовал антологию своего главного труда под заголовком L’esthétique du moyen âge, однако эта книга страдает одним недостатком: в ней, как правило, имеются отсылки на основное произведение, но не к источникам.
2
Первый вариант этого текста появился под заголовком «Развитие средневековой эстетики» в первом из четырех томов коллективного труда «Этапы и проблемы истории эстетики» (Momenti e problemi di storia dell’estetica, Milano, Marzorati, 1959). В том варианте латинские цитаты не переводились, и это не единственное отличие. Текст, представленный в упомянутом издании, был задуман и написан тридцать лет назад. Я считал его устаревшим, прежде всего по причине библиографии, но был вынужден пересмотреть его для издания на английском языке (Art and Beauty in the Middle Ages, New Haven and London, Yale University Press, 1986). Прием, который был ему оказан, в том числе и со стороны неспециалистов, побудил меня вновь представить его в этой форме. Зато стиль подвергся существенным изменениям. Кроме того, текст стал более доступным для широкого читателя. Мы постарались пополнить библиографию (не слишком увлекаясь узкоспециальным подходом и отдавая предпочтение трудам, которые можно легко достать). Были заново сверены многие источники, добавлены некоторые параграфы (особенно в главе, посвященной символизму и аллегории, а также в той, где речь идет о теориях искусства). Что касается двенадцатой главы, то она в основном написана заново. Если ответственность за теоретическую сторону дела остается на мне, то работа по техническому обновлению книги (сопровождавшаяся критическими замечаниями и возражениями по существу) стала возможной благодаря сотрудничеству с Костантино Мармо, без которого я не дерзнул бы снова взять в руки первоначальный текст. Я, конечно же, обязан и всем тем авторам, упомянутым в библиографии, которые, насколько мне известно, писали на эту же тему после 1959 г.