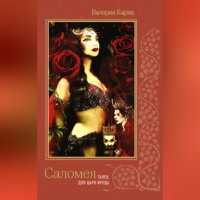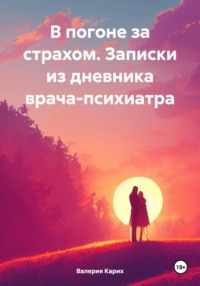Полная версия
Жена фабриканта. Том 2
Все стало ненужным, казалось по-детски глупым и трогательным. Да и был ли смысл хранить это все? Не жаль было давнего счастливого прошлого, которое уже не вернешь. Он сам от всего отказался. Пришел черед держать ответ перед матерью, собой и Богом. Но все равно надо думать о будущем, надо было решить, как жить с тяжелым грузом преступления. Ждать, когда его найдут, как преступника и соучастника преступления вместе с Массари и его шайкой или же решиться и самому пойти в участок, признавшись во всем… А потом? Потом каторга, позор на честное имя семьи, матери, братьев…Те его за этот позор никогда не простят.
Он был рад тому, что матери нет дома. Можно свыкнуться, осмотреться. Нужно время, чтобы подготовиться к разговору с родными: матерью, старшим братом.
Дождавшись, когда догорит последний листок, он загасил огонь и закрыл заслонку.
Выйдя во двор и обходя все хозяйственные постройки, он по-хозяйски осмотрел их, проверяя, что необходимо подправить в полках или навесах, как постелена на служебных строениях крыша, нет ли дыр в свинарнике или хлеву, не нужно ли их заделать.
После чая он снова пришел к птичнику и там тоже долго сидел, мечтая, как заживет, и поглядывая, как вольготно разгуливают по песку за вольером материнские хохлушки, пеструшки и горделивый красавец петух Карлуша, любимец матери, важно расхаживающий по двору среди кур и не сводящий с них глаз. Кудахтали куры, петух наклонял голову с алым гребешком, зорко следил за подопечными, взмахивал крупными крыльями, как будто собираясь взлететь. Утки лениво копошились возле корыта с водой, установленного посредине загона, или же сонно дремали в теньке под раскидистыми ветками яблони.
Петр бродил по двору, таская с собой в своей холщовой котомке, переброшенной через плечо, холодный квас в глиняной бутылке. Припадал, когда накатывала тошнота или жажда к фляге. Опорожнив, спешил в холодное темное подгребье и наливал очередную порцию напитка из высокой пузатой темно-зеленой бутыли с широким горлом.
После обеда он мирно дремал, греясь на солнышке возле сарая. В четыре часа его разбудил Архип, позвавший отогнать коров снова на пастбище. Он пошел. Вернувшись, растопил баню, помылся и после ужина отправился спать.
17
На московских улицах воцарилась глухая сонная тишина: не было слышно ни единого звука, ни скрипа деревьев, ни ветра, ни дежурного тявканья дворовой собаки.
Петр битый час ворочался на постели, не в силах заснуть. Пребывание в парной не пошло ему на пользу. Ноги и руки ломило, как при сильной инфлюэнции, в пересохшем рту стойко держался металлический противный привкус.
Алкогольный червяк ожил и требовал положенную дозу. В затылке и висках Петр ощущал давящую боль. Он намеренно не закрыл окно ставнями. И теперь к нему в комнату настырно и страшно заглядывала полная белая луна.
Он отвернулся от нее на левый бок и сразу почувствовал, как левую половину груди опоясала острая боль. Покрывшись испариной, он почему-то решил, что это пришел его смертный час и испытал почти животный страх. Подождал и осторожно перевернулся на спину. Так и лежал, боясь шевельнуть ногой или рукой.
«Смерть за мной пришла, глядит», – тоскливо думал он, чувствуя, как холодеют от страха ступни ног, торчащие из-под одеяла. Он отвернулся от страшной луны. Тихонько всхлипнул, остро чувствуя одиночество, свою ненужность и жалкость.
«Хлебнуть бы водички, а еще лучше бы полштофа найти. Тогда и сон бы сморил. Уснуть, а завтра как огурец»! – он перевернулся и потянулся к графину с водой на тумбе.
Опять грудь опоясала жгучая боль, и он упал навзничь.
«Архип утром увидит, как я лежу, мертвый в бесстыжем виде с задранной до подбородка исподней рубахой…» – представив себя в таком жалком виде, он содрогнулся. Мучаясь от запоев, он раньше звал смерть освободить его от страданий. А теперь, когда она пришла по его зову, он отказывается помирать, потому что, оказавшись дома, снова желает жить.
Так он и лежал в темноте, больной и беззащитный, не в силах пошевелить рукой, на скомканных и липких от пота простынях, взмокший и распластанный, как на плахе, в ожидании завершающего разящего удара.
Когда боль отпустила, он попробовал повернуться на бок, но она снова безжалостно проколола его грудь, будто шилом. Испугавшись, он замер и всмотрелся в черный угол за шкаф. Там стояла смерть в черной одежде. Он силился разглядеть ее лицо и не мог.
– Уйди. Я хочу жить, – прошептал Петр.
Но смерть не пошевелилась. Он стал думать, как будет мертвым лежать в гробу. И эта нарисованная воображением картина показалось ему нелепой бессмыслицей. Только что жил, дышал, ходил, разговаривал – и вдруг его нет? А что там, за страшной чертой? Небытие и вечный сон? И когда он вдумывался, вглядывался в темную пустоту, вся душа его восставала против такой несуразицы. Душа, но не отравленное алкоголем тело.
Шепча пересохшими губами одну за другой молитвы, он глядел на луну и мысленно клялся Всевышнему, что если тот даст еще пожить, он бросит пить. «Зачем же я жил? – с тоской вопрошал он себя. – Не родил детей, зато написал полсотни глупых и пошлых стишков, из которых ни одно не издали. Я жалкий воришка, обокравший родную мать. И я заслужил смерти, потому что именно такого конца я и достоин, бездарно промотав то, что имел… Я вор и бездарность. И эта боль – расплата за мое высокомерие и гордыню. Жил гнусно и гнусно помру. И пускай! Значит, так судит Бог… И если это конец – то пусть он придет».
Сердечные приступы чередовались один за другим до самого утра. И лишь когда через щель в закрытых ставнях просочилась полоска серого света, боль отпустила его.
Чувствуя слабость во всех членах, не отходя от постели, он сходил в туалет в ночной горшок. Задвинул его ногой под кровать, расплескав мочу на полу. И поплелся в комнату матери. Опустившись там на колени перед иконостасом, с благоговейным страхом вглядывался Петр Ухтомцев в лики Богородицы и младенца на Ее руках:
«Помилуй мя, – шептали с мольбой его потрескавшиеся сухие губы, червяк внутри корчился. Петр исступленно теребил худой рукой ворот исподней рубахи.
Стукнувшись костлявым лбом о дощатый пол, всхлипнул. В душе царила смертная тоска. Сердце бухнуло, ухнуло. В глазах потемнело, бешено завертелись стены, мебель… В голове что-то лопнуло, рассыпалось на тысячи разноцветных пронзительных осколков, и он провалился в кровавую глухую темноту.
18
Архип обнаружил рано утром молодого хозяина лежащим на полу без сознания. Подхватив под мышки, волоком дотащил его до кровати и кое-как уложил.
Очнулся Петр от всхлипываний и причитаний сморкающейся в засаленный передник Лукьяновны. Та сидела на табурете и жалостливо глядела на него, подперев щеку рукой. Глаза ее были мокрыми.
– Чего же вы плачете, Степанида Лукьяновна? – спросил ее Петр.
– Да как же мне не плакать, голубчик мой! Петр Кузьмич, родненький, как же вы нас всех напугали. Что же это такое, как же… – отозвалась та и по-матерински заботливо поправила в ногах одеяло.
– Покушали бы вы, батюшка наш! Может, что-то хотите? А то ведь отощали совсем. Даже матушка ваша не узнает, как увидит. Что вам подать, Петр Кузьмич? – деловито спросила она, приподнимаясь, и уже готовая бежать по первому слову больного на кухню.
– Воды принеси попить. Больше ничего не надо, – попросил Петр и сбросил со лба на пол мокрую тряпку.
Лукьяновна наклонилась, молча подняла ее и, сокрушенно покачивая головой, вышла. Быстро вернулась и поставила возле кровати стул, на него графин с водой. Налила в кружку и бережно подала. Напившись, Петр опустил худые длинные ноги на пол и задумался.
– Спасибо, Степанида Лукьяновна. Вы идите отдыхать, мне уже лучше, – сказал он.
Петр подошёл к заветному иконостасу. Опустился на колени, начал молиться. А когда закончил, ощутил в душе победное торжество над своей слабостью. «Я жив, жив! Спасибо, Господи и Пресвятая Божья матерь», – ликуя, думал он.
Желание бросить пить созревало в нем с прошлой зимы. Но только в это августовское утро окончательно утвердилось Ничто не могло теперь помешать исполнить его. Он убедил себя, что стоит ему только броситься матери в ноги и вымолить прощение, объяснив воровство шантажом и угрозой жизни, как она простит, и жизнь снова наладится. И эта надежда на скорые изменения, состояние подъема, появившаяся решительность и целеустремленность так ему понравились, что он снова и снова с облечением крестился на иконы, шепча слова благодарности. «Я другой, мне по плечу это сделать. Я начну жить заново, я сильный, преобразился. Я убил в себе червя». И от этой блаженной мысли впервые за месяцы пьяного угара в нем как будто воссияла тихая светлая радость, гордость собой, надежда на помощь Бога и будущую праведную жизнь. Вечерело, после самоварных посиделок в обществе Лукьяновны он снова пошел бродить по двору. Все приготовлялись ко сну: люди и живность. Напоенная и накормленная скотина стояла в хлевах и свинарнике, калитки в птичники заперты. Спавшие в низких сарайчиках куры с утками, гусями и индюшками тоже досматривали десятый птичий сон. Из круглого темного зева курятника раздалось хлопанье крыльев петуха, вскрик, в ответ квохтанье. И все снова замолкло.
Где-то на другом конце улицы послышалась игра на гармошке, звучный мужской голос вытягивал протяжную песню, которая то ширилась и разрасталась, подхваченная женскими стройным голосами, то взлетала вверх, в сумеречное догорающее поднебесье. Со стороны заставы, где поле и лес, тянуло ночной прохладой и сыростью.
Архип стоял у сарая и точил косу. У его ног лежал Полкан. Вскочил, как только завидел хозяина, подбежал и завилял хвостом. За воротами послышался оживленный разговор. Уже где-то близко с их домом раздвинулись меха гармони, кто-то лихо и весело заиграл, но быстро прервал мелодию.
– Не слышали, что старуха Старикова учудила? – спросил у него Архип.
– Нет. А что?
– Она ходила в лес за грибами. Потом встала их у дороги продавать и сцепилась с Анной Осиповой.
– Как сцепилась? Обе старушки! – изумился Петр.
Крутов усмехнулся в усы.
– Так я о том и говорю. Лукьяновна рассказала. Встали обе они у дороги: у Осиповой грибы люди берут и берут, а у Стариковой точно такие же – нет. Ну Стариковой, видно, обидно стало, она подошла к Анне Сидоровне, да и пнула ногой ее корзину. Грибы все на дорогу и рассыпались. Во как… Бывает! Но Осипова бабка умная, не стала с полоумной связываться. Обругала, грибы собрала, да и ушла.
– И правильно сделала. Так они теперь, поди, надолго разругались, – предположил Петр.
– Понятное дело. Помирятся… А я у вас, Петр Кузьмич, на завтра хочу на целый день отпроситься.
– Какое-то дело?
– Да, я нанялся к помещику Бодягову, он у себя возле рощи лен собрался на следующую весну посеять. И пригласил мужиков березняк на том месте срубить. Вот я и хотел пойти, поработать. Мне ведь деньги нужно в деревню каждый месяц отсылать. Матушки вашей нет, и денег не стало.
– Но тут уж я вам помочь не могу.
– Да, я это знаю, Петр Кузьмич. Потому и отпрашиваюсь. Отпустите, Христа ради.
– Я не против. Только как же ты одной рукой-то будешь деревья рубить?
– А я рубить не буду, стану сжигать и золу собирать.
Они продолжили обсуждение новостей. Когда Петр поделился, что решил бросить пить, Крутов одобрительно кивнул.
– Это вы хорошо придумали, батюшка. То-то матушка ваша обрадуется, когда вернется. Это ж какая радость узнать, что сын избавился от бесовского наваждения. А то ведь она, бедная, за вас уже сколько заздравных заказывала. Добрая весть, – вновь повторил он и добродушно прищурился.
Работал Архип Васильевич, быстро и ловко двигая точилом по острию. Правая культя, спрятанная в рукаве, завернута за пояс. Звенящий звук точила резко отдавался в ушах Петра Ухтомцева.
– Только вам надобно отходить помаленечку, а то неровен час белочку словите, – по-дружески посоветовал Архип. На своем веку он видел много случаев, когда человек, резко бросавший пить, на третий день заболевал белой горячкой.
– Вы уж совсем обо мне плохо думаете. Неужто я совсем пропащий?! – вспылил неожиданно Петр.
Архип отрицательно покачал головой.
– А чего же тогда… – Петр поднялся и направился к дому.
Но дома в душной комнате ему тоже не сиделось. Походив по пустым темным комнатам, он снова вышел во двор.
Как и предсказывал Крутов, ночью у него случилась горячка. В беспамятстве он выскользнул во двор, дошел до сарая и там зачем-то взял топор. Затем долго ходил кругами с ним по спящему дому и двору, останавливался возле запертых комнат, кладовых, к чему-то прислушивался, вглядывался обезумевшим взором в притаившуюся в зарослях кустов ночную темноту.
Архип входную дверь в ту ночь почему-то не запер. И Петр беспрепятственно прокрался к нему во флигель. Остановился посередине горницы, дико озираясь по сторонам и что-то бессвязно бормоча.
Архип проснулся почти сразу, как только тот вошел. Сперва всматривался в темноту, а когда сообразил, подскочил, как ужаленный и ухватился здоровой рукой за топор. Настойчиво потянул на себя, мягко приговаривая:
– Отдайте мне топор, Петр Кузьмич. Вам его тяжело держать…
Петр не сопротивлялся долго и выпустил топор из ослабевших рук. Архип живо засунул топор под кровать. Зажег свечу и подошел к хозяину.
– Крысы… Гляди, вон же они бегут, – задыхаясь, бормотал Петр, оглядываясь и указывая на стены и потолок, – глянь, как много! Вон же, вон, бегут, окаянные! Бей их, бей их! – дико закричал он и подскочил к окну. Задергал штору, пытаясь стряхнуть только ему видимых тварей.
– Вон они, вон! – возбужденно восклицал он.
Архип крестился, глядя на мечущегося хозяина. «Белочку словил, будь она неладна. Было бы у меня две руки, я бы его сейчас быстро угомонил, лежал бы тихо, как бревнышко. Говорил же, помаленечку надо, осторожненько», – досадовал он, думая, что теперь ему уже не удастся сходить на заработки, как намечал.
Всю ночь ходил он как привязанный за ничего не соображавшим хозяином, куда тот направится, туда и он: во двор или же в огород, или на улицу и мимо спящих домов по темной улице пойдет. Кружили до рассвета. Иногда на них из-за чужого забора брехали собаки. Архип, тяжело дыша, догонял распаленного алкогольной горячкой хозяина и ласково убеждал воротиться домой, что там, мол, того ждет сухая и теплая постель, и что надобно бы отдохнуть, не бродить по улицам, как бездомному. Петр внимательно выслушивал, шевелил губами, бормотал бессвязно и снова бросался сломя голову бегать по спящей быстро светлеющей улице.
Наконец Петру Кузьмичу пришло на ум воротиться. Но и дома продолжилось хождение по комнатам, попытки залезть на чердак. Архип предусмотрительно запер все двери на ключ. И больной, подергав за ручку и, убедившись, что открыть не может, рассердился. Стал кидаться на дверь, пытаясь вышибить ее. И вдруг внезапно он затих.
«Притомился болезный, вот и слава Богу», – с облегчением подумал Крутов. Подошел к присевшему на диван хозяину и стал ласково уговаривать прилечь. А когда тот послушался, накрыл его теплой кошмой в надежде, что больной быстро согреется и уснет. Сам же, сидя у изголовья на стуле, по слогам читал больному молитвы из Евангелия, а потом и сам заклевал носом, не заметив, как уснул.
Проснулся засветло от прогремевшей за воротами водовозной телеги. Убедившись, что хозяин спит, сходил в умывальню, умыл лицо. Взял бидон для молока и пошел к дому Ивана Кузьмича. А когда вернулся обратно, обнаружил, что хозяин исчез.
К этому времени на улице вовсю разошелся дождь. Солнце скрылось, как будто и не светило. И по небу мутной тяжелой грядой ползли серые низкие облака.
Передав кухарке молоко, Архип бросился вон. Обежав двор, заглянув в сарай, на чердак и даже в колодец, он выскочил за ворота. Но на улице никого не было, усилившийся дождь разогнал людей по домам. Сбегав в оба конца улицы, он никого не нашел, чтобы спросить о пропашем хозяине. Расстроенный, он вернулся домой, раздумывая, где искать Петра.
19
А в это время выскользнувший через задний двор Петр Кузьмич, выйдя за городскую заставу, брел по полю в беспамятстве куда глаза глядят, зачерпывая домашними войлочными туфлями грязь в глубоких, залитых дождевой водой рытвинах, что-то бормоча под нос. Куда он направлялся, он и сам не понимал и не чувствовал, что его ноги попадают в лужи и спрятанные под влажной травой ямы с грязной жижей. Но его всё время подстегивало непреодолимое желание куда-то бежать, мчаться. Он быстро промок, но не чувствовал этого. Происходящее он ясно не воспринимал, и то, что видели его глаза, не совпадало с действительностью.
То вдруг ему казалось, что за ним кто-то гонится, и оглядываясь на ходу, он остервенело начинал от кого-то невидимого отмахиваться руками и даже пытался лягнуть, как это делает бык или корова, недовольные тем, что на них нападают оводы, подпрыгивая и вскидывая задние ноги. Иногда он останавливался как вкопанный и что-то бессвязно выкрикивал, начинал ожесточенно жестикулировать, кому-то пытаясь что-то доказать, приводя в изумление наблюдавших за ним редких прохожих. Но он был далеко от дома, и в этом конце Москвы не встретил ни одного своего знакомого, который мог бы ему помочь. В таком состоянии он пребывал до ночи. Очнулся под утро на другой день на берегу Яузы, лежа среди буйно разросшегося молодого ивняка и водяной травы. Как он здесь оказался, он вряд ли мог объяснить.
Поднявшись, доковылял до ближайшей лесной опушки, как подкошенный рухнул в траву и сразу уснул. Ночью проснулся, дрожа от холода. Вскочил и стал озираться. Долго не мог понять, где находится. А когда сориентировался, тяжело побрел вдоль реки. Домой вернулся под утро. Прокрался тем же путем, которым и вышел.
До полудня пролежал на постели, вытянувшись в длину, закрыв глаза, мертвенно бледный, как покойник. Есть и пить не мог, в желудке ничего не задерживалось, извергалось наружу. Архип отпаивал его водой из чайной ложечки.
– Попейте, Петр Кузьмич, – жалостливо говорил Архип, суетясь возле него, как нянька.
Петр Кузьмич в ответ приоткрывал мутные, ничего непонимающие глаза, мычал что-то нечленораздельное и опять засыпал. Его худые и серые ноги, вылезавшие из-под кошмы, были в синих кровоподтеках.
Спустя день ему стало лучше. И сваренный Лукьяновной куриный бульон похлебал с аппетитом.
Прошло два дня. И вот он сидит в сарае у брата, дожидаясь, когда к нему зайдет Ольга Андреевна.
Иван Кузьмич, не подозревая, что младший брат прячется у него в сарае на заднем дворе, вытер платком вспотевший лоб и направился в огороженную досками летнюю умывальню, где был проведен душ и стояли бочки с водой. Раздевшись, он вошел внутрь и заперся на щеколду. Долго и с удовольствием плескался в нагретой на солнце воде, поливая на себя из лейки.
Возле забора разрослась малина, на смородиновых кустах еще кое-где висели переспевшие ягоды. Над головой у Ивана Кузьмича тяжело свисали ветки яблони с спелыми плодами.
Не удержавшись, он поднял руку, нагнул одну ветку и сорвал яблоко. С удовольствием вонзил в его спелую сочную мякоть крепкие зубы, и в разные стороны брызнул кисло-сладкий сок. Выйдя из купальни, он стал яростно растираться махровым полотенцем. Закончив, огляделся и почувствовал, как в душе у него ширится, дрожит и нарастает счастье от ощущения полноты жизни и долгожданного возвращения домой.
Как мальчишка взбежал по лестнице и прошел в свой кабинет. В дверь заглянул Тимофей:
– Не изволите ли, батюшка, помочь одеться?
– Не нужно, ступай, – ответил хозяин.
Ухтомцев достал из шкафа аккуратно сложенную домашнюю косоворотку, плисовые штаны, переоделся, выдохнул и с облегчением проговорил: «Слава Богу, дома», – после чего ещё раз радостно оглядел привычную обстановку.
Мягко ступая по ковру, обошел стеллажи, приоткрыл дверцы и потрогал расцвеченные позолотой кожаные корешки редких антикварных книг, прикупленных при случае на Смоленском рынке у букиниста Ивана Андреевича Чихирина.
Сам он был равнодушен к книгам, их читала Ольга и дочери. Дотронулся до знакомой поверхности потертого коричневого дивана и оббитого зеленым бархатом стола. Потом перешел в малую гостиную и расслабленно уселся там на диване. Налил из кувшина мятного квасу с лимоном и выпил. Раскрыл газету «Московские ведомости», но читать не стал.
«Тихо, ох, как же хорошо…» – лениво размышлял он, прислушиваясь к знакомому скрипу полов где-то за стеной и доносившимся снизу монотонным голосам прислуги. Опустил голову на грудь и незаметно задремал.
Часть 2
1
– Петр Кузьмич, голубчик! Здравствуйте. А мне Ариша сказала, что вы меня дожидаетесь, я пока всё переделала и сразу к вам. Ну как вы? Как ваше здоровье, как матушка? Слышала, что вы долго болели, – сочувственно расспрашивала Ольга Андреевна.
– Я и сейчас ещё немного болен. Но это скоро пройдет, я завязал. И вы не извольте об этом и думать с беспокойством. Про матушку свою пока ничего не знаю. Я воротился домой, ее нет. Вот жду теперь: обещала в сентябре вернуться. А как вы отдохнули на даче? Как Наташа, Таня? Как братец мой Иван? Вы не сердитесь, что только сегодня приехали, а я уже к вам и пришел. Я рад, что вижу вас, – признался он и виновато покачал головой.
– И я рада вас видеть, голубчик. А ведь вы и впрямь сильно исхудали. Пойдемте-ка, пока хозяин мой спит, на кухню, я вас накормлю. Без еды даже разговаривать не стану. Хотите кушать?
– Не хочу. Пить вот только сильно хочу, – ответил Петр.
– Там и попьем, морс, квас или компот. Что пожелаете, Петр Кузьмич, – радушно добавила хозяйка и пригнувшись вышла из низенького душного сарайчика. Петр волей-неволей отправился за ней. Они недолго пробыли на кухне, а потом Ольга Андреевна пошла провожать деверя за ворота.
– Братец мой вам запретил со мной видеться и разговаривать, я ведь знаю. А вы вот ничего не боитесь, – говорил Петр, искоса поглядывая на идущую рядом с ним невестку. До этой минуты он все еще не решался раскрыть истинную причину своего посещения. Разговор между ними все это время вертелся вокруг летней жизни на даче и семейных новостей.
– А чего мне его бояться, – усмехнулась хозяйка и стрельнула в Петра озорным взглядом.
– Ну… Иван строг ко всем. Когда вы к нам приезжали матушку навещать, он со мной и не здоровался, отворачивался при вас и детях, – в голосе Петра звучала плохо скрываемая обида.
– Тогда он сердился, Петр Кузьмич. Из-за чего, не рассказывал, – ответила Ольга Андреевна.
– Вы правда ничего не знаете? – удивился тот.
– Нет, – она отрицательно покачала головой.
– Ведь я к вам пришел не просто так, а по очень важному для меня делу, – он замолчал и выжидательно взглянул на нее. Она утвердительно кивнула.
– Я так и поняла, поэтому поспешила к вам. Прошу вас, голубчик, расскажите, что же случилось?
– Эх, Ольга Андреевна, душевный вы человек. Брату моему повезло с вами. Если бы у меня была такая жена, как вы, я бы не жил такой жизнью, как жил до сих пор. Ну да что говорить. Мне, видать, не судьба встретить такую женщину, как вы. Вы наверное в курсе, что с прошлого года я проживал на съемной квартире. У меня с матушкой длится конфликт из-за разногласий во взглядах по поводу того, как мне нужно жить и чем заниматься. Убедить матушку невозможно, и я вынужден был уйти… Знаю, что причинил ей боль, но в тот момент не мог поступить иначе, – Петр снова малодушно искал оправдания содеянному, только теперь уже в глазах Ольги Андреевны. Сперва хотел рассказать ей всю правду о своем воровстве, но когда посмотрел на ее честное одухотворенное лицо, понял, что она вряд ли его поймет. Да и у него самого, пожалуй, не хватит духа этим рассказом, пусть и с раскаянием, разрушить установившиеся между ними теплые доверительные отношения.
– А с матушкой вы уже помирились? – спросила Ольга Андреевна, с участием глядя на молодого человека.
– Пока нет, но когда она вернется из своих палестин, я с ней поговорю. Надеюсь, она простит меня.
– Уверена, что простит. Матушка любит вас больше кого бы то ни было, – уверила его Ольга Андреевна.
– Эти господа втянули меня в свой преступный сговор, а теперь вымогают деньги, – судорожно выпалил он.
Она охнула, прижала ко рту руку и спросила:
– Сколько на вас числится долга, голубчик?
– Сейчас осталось четыреста рублей.
Ольга Андреевна призадумалась.
– Я подумаю, как вам помочь. Дать вас сразу все деньги у меня не получится. Возможно, смогу по частям. Но вы на меня уж, сделайте милость, не обижайтесь. Я сама съезжу к этим людям и отдам им деньги.
Петр Кузьмич в изумлении уставился на невестку.
– Это невозможно. И опасно. Они нехорошие люди.
– Ну чем они для меня могут быть опасны? Я их не боюсь. Я старше вас, и взять с меня нечего. К тому же, я дама, – и обворожительно улыбнувшись, прибавила, – когда я найду деньги, я вам сообщу. Вы расскажете, куда нужно съездить?