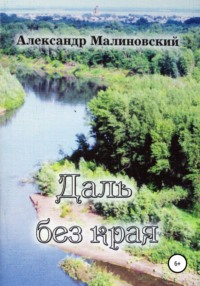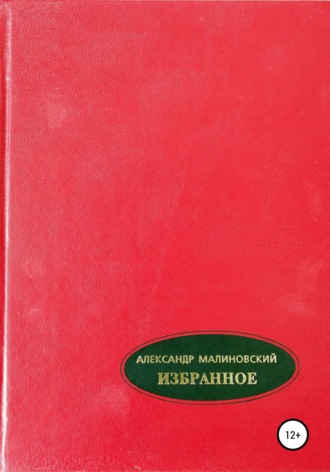
Полная версия
Избранное. Том 2
В куче бревен, когда он заглянул за большой березовый комель, замерцало расплывчатое пятно. «Гнилушки светятся», – отметил про себя Шурка. Он знал, что как ни пробуй гнилушку на ладони, в кулаке, она светит, но не греет. Но сейчас ему казалось, что это светлое пятно из гнилушек, так же как и далекие звезды, гонит к нему теплый и ласковый поток. Шурка еще больше успокоился. Он вспомнил, как однажды бабушка Груня сказала ему: «Все мы под Богом ходим. За твоей спиной ангел большекрылый. Если ты будешь стараться делать добрые дела, он тебя не оставит в беде. Он твоя опора».
Шурка тогда не удивился словам бабушки. Он и вправду иногда очень сильно чувствовал огромную добрую силу, идущую издалека к нему. Чаще всего это случалось, когда он был один под открытым небом: в поле, в небольшом лесу, на Самарке у воды. Но это шло, как ему казалось, не от неба, это было земное. Сила шла, как он однажды подумал и удивился своей догадке, – от отца Станислава, из его далекого далека. Свет поддержки и надежды шел незримо, но властно и побеждающе. Он так себя заставил думать или это так оно и было – уже нельзя определить. Но это не был самообман. Может быть, это – врожденная жажда жизни? Ему сейчас показалось, что этот луч поддержки накрепко соединяет его с отцом. «Но ведь земля круглая, значит луч от Варшавы до Утевки, до меня, должен быть в виде дуги, – подумал он и спохватился. – Почему я думаю так, это же, наверное, бред у меня начался, и я теряю сознание. Так ведь не думают».
Музыка прекратилась. Через некоторое время послышались громкие голоса на улице, но все проходили мимо. По задам никто не шел. Кричать, звать о помощи Шурке было стыдно и он, перевалившись через левый бок на живот, пополз. Оставалось до дома метров тридцать, когда впереди замелькал слабый огонек. «Кто-то с фонариком идет», – догадался Шурка.
– Эй, – негромко позвал он.
Невысокого роста человек остановился.
– Кто там?
Перед Шуркой стоял Мишка Лашманкин, его давний неприятель.
– Коваль, что с тобой? Ты пьяный, что ли, – хохотнул было Мишка.
– С ногами что-то.
Лашманкин подошел ближе.
– Ты же весь в пыли, ты что?
– Говорю: ноги отнялись.
Мишка перевернул Шурку на спину, взял под мышки и подтянул к плетню.
– Ты как на задах в эту пору оказался? – спросил Шурка.
– Да это, лампочка увеличителя перегорела. Мы с братаном фотки печатаем, ну я бегал к дядьке, на обратном пути, дай думаю, срежу путь. Я попробую тебя понести. Вот шалыга какая!
Кое-как приподняв Шурку у плетня, он подлез под него и, взвалив на спину, покачиваясь понес.
– Меня давай в наш сарай.
– Ты что, а мать, она заругает же тебя.
– Да нет, – проговорил Шурка, – она думает, что я у деда.
– А может, в больницу?
– Не надо, днем так же было, потом отпустило. Отосплюсь – все пройдет.
– Эх ты, а вдруг нет? – засомневался Мишка.
– Давай в сарай!
Когда Шурка улегся на спину на кучке свежей травы, он сказал:
– Мать встанет корову сгонять в стадо в четыре утра, она меня и обнаружит. Если все нормально, то – порядок. Если не обнаружит, ты придешь в шесть часов ко мне. Проснешься?
– Проснусь, – заверил Мишка.
Шурка спал глубоко, без сновидений и проснулся в восемь часов.
Едва открыл глаза, увидел Мишку сидящим около на старом тазике.
– Ты чего сидишь?
– Будить тебя жалко.
Шурка поднялся и, как будто ничего не было, спокойно прошелся.
– Молодец, – обрадовался Мишка, – а то я вчера испугался.
– Я тоже, – признался Шурка.
У Лопушного озера
– Завтра Жданку не гоняй в стадо, – сказал вечером Катерине Василий, – поедем в Угол косить траву.
– Ладно, – покорно согласилась мать Шурки.
Она уже поняла: спорить бесполезно. Прошел месяц после того, первого разговора, когда было решено делать упряжь для коровы. И вот все готово: легонькая рыдванка с железными колесами, с проволочными реденькими ребрами вместо деревянных, стоит посреди двора. Готова и шорка вместо хомута, легкая оброть и все остальное.
Отец вывел с денника Жданку и стал подводить ее к рыдвану, корова долго не понимала, что от нее хотят, смотрела своими большими темными красивыми глазами и недоумевала.
Наконец-то шорка на шее, тонкая самодельная веревка вместо вожжей привязана.
– Ну-ка, Шурка, отворяй ворота.
И уж было совсем все пошло как надо, да мать Шурки немного подпортила момент:
– Вась, а если она обидится и перестанет молоко давать?
– А куда она денется?
– Ну пропадет молоко, так бывает!
– Опять ты за свое!
Катерина отошла в сторону. Потом вновь приблизилась и виновато попросила:
– Вась, ты на нее не кричи, ладно, если что не так.
– Катя, я ж обещал тебе. – Отец повел Жданку со двора.
Он явно бодрился.
Рыдванка на удивление пошла ходко, тем более выезд на улицу был под горку, и лицо Василия осветилось радостной улыбкой. Смазанные обильно дегтем новенькие оси и колеса хотя и поскрипывали, но как-то влад и бодро. Шурка немного успокоился и за Жданку, и за мать.
У ворот отец положил в рыдванку старую фуфайку, чтобы можно было лежать, привязал косу, и они отправились в путь. Лагунок с дегтем, как маятник, закачался на задке рыдвана. Договорились, что садиться никто не будет, только отец, когда совсем устанет, ляжет в рыдван – сидеть ему никак нельзя.
Мать даже сумку с едой не положила:
– Вась, сама понесу, ей-богу, не тяжело.
Шурка приготовился подталкивать повозку сзади, но так, чтобы не увидел отец.
Он знал дорогу не Лопушное до каждого поворота, до каждой кочки.
Шагая за повозкой, Шурка пояснял:
– Мам, нам надо проехать туда почти три километра. Не бойся – половина дороги жесткая и под уклон, и только за мостом начнется песок.
– Я и не боюсь.
– А можно не по дороге, не по песку ехать, а по траве, вдоль, – говорил Шурка.
– Так и сделаем, но я опасаюсь другого.
– Чего, мам?
– Корова страшно боится шершней. Слепни еще так-сяк, а шершни… С ней сразу могут случиться бызыки, бзик. Что тогда делать? Бздырит, не остановишь.
– А что? – не поняв, переспросил Шурка.
– Может либо рыдванку с отцом разнести, либо себе что поломать.
Повозка двигалась медленно, отцу было трудно идти, но он не садился. Прямая нога его почти волочилась. А Шурка шел легко. На его босые ноги были надеты сандальки, которые ему сделал дедушка прямо при нем три дня назад. Он взял Шуркину ногу, приставил к ступне колодку, померил и тут же кривым сапожным ножом на пороге вырезал из куска толстой кожи две подошвы.
По шаблону выкроил верх из кожи потоньше и сыромятным узким ремешком все прошил. Получилась желтая ровная окантовка. Потом пошарил в своем удивительном ящике, где всегда все находилось, что нужно, и извлек оттуда, как волшебник, две красивые металлические застежки.
– Тебе берег, нравятся?
– Конечно, лучше не бывает, – радовался Шурка.
Дедушка хотел еще натереть сандальки ваксой, но Шурка отказался:
«Потом, деда!» Обувка получилась легкая, мягкая, и теперь, шагая по нагретой летним солнцем дороге, увязая по щиколотки в горячей серой пыли, он не знал забот: дедушкиными умными руками вверху сандалий и по бокам были сделаны дырочки, и пыль не задерживалась в них.
За мостом съехали благополучно с горы. Отец лег в рыдван. На удивление Жданка не воспротивилась этому. Она только вначале не поняла, как идти: Василий стал управлять вожжами.
Мать, взяв за оброть, все поправила и пошла рядом.
Шурка шел сзади один. Они приблизились к Самарке, и песчаная дорога утяжелила ход повозки. Металлические колеса, за которыми ревностно следил Шурка, когда рыдван съезжал с обочины на песок, вязли. Шурка, упираясь в заднюю стойку, что есть мочи толкал повозку.
Остро пахло прокаленным солнцем песком, в воздухе, казалось, не было ни единого движения, которое хоть как-нибудь бы пригнало прохладу. И только знакомые осины, стоявшие на обочине, шевелили своими чуткими листочками.
Шурка знал, что надо потерпеть: еще один поворот – и дорога изменится. Это случится сразу за сухим вязом, в дупле которого живет, об этом знает только Шурка, удод, а по-простому – петушок. Такой смешной, забавный и неторопливый лесной житель. А напротив вяза, на полянке, – большой ровный круг зарослей шиповника. Здесь Шурка иногда прячет всякую всячину, чтобы лишний раз не таскать домой: удочки, банки с червями, весло. Никому и в голову не придет лезть в такую чащобу.
…Наконец-то дорога нырнула в заросли черемухи, крушины и некленника. Стало прохладно. Недалеко было Лопушное. В который раз остановились на отдых, и тут же Шурка острым ножичком срезал прямо у дороги полуметровый пустотелый зеленый стебель и сделал из этой быстылины дудку. Раза два со свистом дунув в нее, разудало заиграл, переваливаясь с ноги на ногу. А Шуркина мама, весело выскочив на поляночку, пошла в пляс, припевая:
Дударь мой, дударь молодой!Самодударь мой дударь молодой!Ее маленькие загорелые и ловкие ноги, обутые в чувяки, мелькали в ромашковом и васильковом разнотравье маленькой придорожной полянки. И вся она, в косыночке с голубыми горошками, стала вдруг веселой и озорной. Шурке тоже стало радостно, и оттого он заиграл еще азартнее и громче.
Когда он кончил играть, отец одобрительно спросил:
– Где ты так научился выкомаривать?
– Дед его подучил, – сказала мать.
Жданка тем временем не плошала и, увидев сочную густую траву в кустах, дернулась туда. Рыдванка встала поперек дороги, передними колесами подмяв кустики бересклета.
– Но… балуй у меня, – совсем как на лошадь, грозно шумнул отец, но, спохватившись, вылез через проволочные боковины из рыдвана и вывел Жданку на дорогу.
Лесные дороги, там, где ходит только гужевой транспорт, особые.
В три колеи. Две от колес и от лошади; посредине дороги – третья.
Удивителен запах лесных дорог. Меж колеями изумрудная зелень не теряет своей свежести и яркости все лето, под нависшими низко ветвями ей благодатно. Влажность, исходящая от озера, питает буйство и разнообразие трав по обочинам дороги. На самой дороге обычно растет самоотверженный подорожник. Шуркина мать называет его семижильником, и Шурка несколько раз уже пользовался им, прикладывая к ранкам или опухоли.
Из двух десятков озер, которые он знает, Лопушное одно из самых интересных. Ни на Лещевом, ни в Подстепном, ни на Осиновом нет того, что есть здесь. Тут с Шуркой всегда что-нибудь происходит интересное.
В дальнем заросшем конце озера впервые позапрошлым летом подстрелил крякву. А на подходе к озеру среди черемухи растет единственная на этом берегу Самарки береза. И никто никогда – ни взрослые, ни мальчишки – не брали сок у березы, настолько она дорога всем. Однажды они с дедом вдоль озера набрали целую телегу груздей и на обратном пути негде было сидеть в ней, шли пешком.
…Когда добрались до озера и отец начал распрягать Жданку, мать Шурки, подошедшая помогать, ахнула:
– Васенька, что же это делается, а?
Шурка увидел, как из обоих передних сосков Жданки, словно из неплотного рукомойника, стекало большими каплями молоко.
– Ты ее доила утром? – спросил тусклым голосом отец.
– А как же, доила, – поспешно ответила мать, – а если она надорвалась?
– Надо подоить еще, – будто не слыша ее, сказал отец, – а ты, Шурка, сготовь костер, сварим молочный суп с лапшой. Вот вам задание, а я пойду траву посшибаю, попробую.
Шурка взял топорик и пошел высматривать рогульки для костра.
Вскоре зазвучали за его спиной непривычные такие в лесу удары молочных струй о гулкое дно ведра. И он услышал, как мать сквозь слезы почти запричитала:
– Миленькая ты наша кормилица, прости нас…
За старицей
Много всего надо для строительства дома. Но после самана: бревна для теса – в первую очередь. В этом году Любаевым повезло: ордер в сельсовете дали на сенокос в лесу. Кварталы достались тощие, трава была никудышная. Однако сенокос, получается, был недалеко от делянок, отведенных под вырубку осин и осокорей. Можно было работать на два фронта. Так и сделали: попеременно то косили, то пилили. Кто как мог.
Рассортировали калек и – за работу. Венька Сухов без руки, так ему, например, проще пилить, чем косить. Он и пилит. А вот у дядя Коли Тумбы нет левой ноги почти совсем, он и косит, и пилит.
Любаев разводит и точит пилы. И потихоньку пробует косу, насаженную на черенок под таким углом, чтобы можно было работать не нагибаясь. Шурка видел, как отец пробовал косить за кустами, ближе к воде. Размеренные, выверенные движения отца при совершенно прямой спине и прерывистое передвижение его вдоль валка, волочащим за собой ногу, напоминало работу какой-то машины. Но эта кажущаяся надежность могла враз рухнуть, если не соблюдать равновесие и равномерность перемещения.
Валить громадные осокори тоже надо уметь.
– Ты сначала определяй, куда дерево глядит, то есть куда оно наклонено, – учит Венька Шурку, – как определил, так и пили с той стороны, куда оно глядит, на глубину полотна пилы. А затем уж заходи с противоположной стороны и на четверть выше давай пили. Само упадет куда задумано.
– А если дерево не «глядит» и надо чуть в сторону свалить его? – уточнял Шурка.
– Тогда берешь топор и как сделаешь первый надпил, сразу руби топором, чтобы не было зажима – можно руками или вагами толкать куда надо.
– Берегись! – зычно крикнул Тумба, и осокорь, могучий и красивый, сокрушая молодняк, не теряя величавости и осанки, повалился на траву. Земля вздрогнула, когда он упал, и стало светлее на поляне.
– Молодец, Тумба! Удачно положил! – обрадовался Шурка.
– Прошлое лето вот так же валили, и один рухнул на сухостой – приличную осину, а она возьми да и упади, туда, где и не ожидали, а там бабенки кружком стояли. Вот одну из них, Таню Амосову, она будто выбрала – скончалась на месте, – сказал Веня.
Первый осокорь, который подпилили Венька с Шурка, падать вначале не хотел, он чуть повернулся слева направо в комле, зажав пилу так, что Шурка с большим трудом, торопясь, выхватил полотно и замер.
– Ко мне! – властно скомандовал Веня и привлек его к себе. – Надо вбок уходить, а то сыграет и комлем долбанет.
Вагами мужики помогли великану, и он рухнул, обломав при ударе о землю себе сучья толщиной в руку, будто это хворостинки, накрыв большой муравейник.
Объявили перерыв, Шурка сладил себе удочку: крючки у него всегда были с собой в фуражке, а леску он захватил специально. Только приладил удочку на рогульке, кем-то прилаженной у коряжки, как поплавок – в мизинец сухая куга – медленно пошел под воду. Шурка привычно дернул: на крючке болтался в ладошку величиной карась. Забросил вновь – та же история. После пятого карасика насадки – безголового слепня – не стало.
– Сейчас я тебе добуду насадку, – сказал подошедший Венька, – дай картуз!
Пока Шурка ловил слепня, пришел Венька и протянул фуражку:
– Попробуй муравьиные личинки.
Шурка попробовал: такая же поклевка – и как отмеренный, в ладошку, карасик затрепыхался на траве.
– Тут кто-то хорошо приманивает, – догадался Шурка, – нормальная рыбалка.
– Это разве рыбалка… вот в Сибири – это да! – отозвался Венька.
– А откуда ты знаешь?
– Дядька мой пишет.
– Он в Сибири?
– Да, с сорок первого года. Теперь уже давно освободился.
– Он сидел?
– Да, теперь женился давно, там и живет.
– А за что сидел? – допытывался Шурка, вспомнив про Жабина, как тот забрался в дом к Пупчихе.
– Ерунда, снял с трактора магнето – поковыряться для интереса, ну, в поле, когда со стана шел. Оно ему и не нужно было. По дурости сделал.
– Ничего себе!
Много всякого увидел и услышал Шурка на этих делянках. Поразил его один разговор, который он нечаянно услышал. Не все уходили ночевать в село, по разным причинам многие оставались на делянке, спали в шалашах из веток и травы, под огромной, толщиной в четыре Шуркиных обхвата, ветлой. В один из таких вечеров Шурка пошел в дальний конец озера посмотреть на уток, которые на зорьке слетались сюда. Ему нравилось за ними наблюдать. Уток почему-то не было, и он решил подождать, присев у небольшой копны, метрах в пяти от берега.
Солнце уже опустилось ниже могучих вязов, росших близко у воды на той стороне, и его лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали задумчивую гладь озера, Шурку вместе с копной и весь берег, томно и разнеженно притихнувший после жаркого дня. Противоположный берег и гладь воды там, под вязами, были сумрачны и таинственны.
Слева от Шурки послышались шаги, а потом и голоса. Он узнал обеих говоривших: Аксюта Васяева и Ганя Лужкова! Он выглянул было и обомлел: они раздевались, намереваясь, очевидно, купаться.
– Ох, и красивая ты, Ганя, внаготку, – сказала восхищенно Аксюта.
– Красивая-то красивая… – задумчиво ответила Ганя. – Красота-то меня и ухоркала.
– Как так? – удивилась Аксюта.
Шурка вновь выглянул и поразился увиденному: на берегу стояли две совершенно голые молодые женщины. У него странно закружилась голова.
Молодая, пышущая здоровьем Аксюта стояла ближе к Шурке, белое ее тело, освещенное закатным солнцем, вызывало невольный восторг. Казалось, каждая рыжая волосинка на ее теле была обласкана вечерним светом. Груди ее, круглые и большие, вмиг начали исполнять какие-то свои замысловатые движения, когда она, подняв руки к небу, дурачась, встряхнулась всем телом и заиграла кистями рук.
– Как может красота ухоркать? – переспросила она, семеня на одном месте ногами.
Ганю всю Шурка не увидел. Ее закрывала своим мощным корпусом Аксюта, но он отметил, как разительно они отличаются друг от друга. У Гани были узенькие плечи и крепкие, шире плеч, округлые бедра. Смуглая кожа делала ее похожей на статую богини. Нездешняя красота Гани была таинственна и холодновата.
– Может, – отозвалась Ганя. – У меня жених уже был, и вдруг Николай появился. Инструктором райкома партии начал у нас работать, а я – секретарем райкома комсомола. Красивый он был, ладный такой. Ухажеров у меня было! А он всех отбил.
Она вошла по грудь в воду и, ойкнув, притихла.
Шурка прижался к копне, боясь, что его увидят. Он не знал, как поступить. Разговор продолжался.
– Я и раньше замечала: странно он ходит как-то, легко и в то же время на левую ногу вроде припадает. Но ничего не говорил, скрывал до времени. Оказалось, ранение у него было, в колено, а потом началось… Отрезали ему ногу чуть не всю. И закатилось мое счастье-то. Жена инвалида. А он еще и запил.
– А мне хоть хроменького, но молоденького бы муженька, – вздохнула Аксюта.
– У тебя все впереди.
– Ага, – с готовностью вроде бы согласилась Аксюта. А потом добавила: – А позади-то уже чуть не тридцать годков.
– Угробила я сама себя, за него вышла, как помутилась голова.
Ведь какие вокруг меня парнины были! Дура я, – продолжала Ганя.
– Что ты говоришь, – ахнула Аксюта, – разве можно так? Он тебя любит?
– А куда ему деваться-то с культей, – зло сказала Ганя и саженками по-мужски поплыла на середину озера.
Аксюта сложила рупором ладони и прокричала как бы украдкой (боялась, наверное, что их кто-нибудь обнаружит голыми в озере), как мальчишка, обращаясь к кому-то на противоположном берегу:
– Кто украл хомуты?
И эхо тут же ответило:
– Ты, ты, ты…
Аксюта хихикнула довольно и не спеша пошла к воде.
Вечерние лучи солнца ласкали ее крупное тело. И казалось, что это большая домашняя птица или огромный жаворонок, один из тех, которых они лепили с мамой из белотурошной муки весной, сейчас взмахнет руками-крыльями и попробует взлететь. На плечи ее упали золотистые волосы, а там, в самом низу живота, у Аксюты огоньком горел небольшой островок растительности.
«Разве такое бывает? – удивился Шурка, – рыжая везде вся!»
Его ошеломила красота и притягательность обнаженных женских тел. Такого с ним еще не было. С Аксютой и Ганей он встречался в день по нескольку раз, но там они были в одежде, все в хлопотах, а здесь, оголившись сами, они вдруг обнажили перед Шуркой целую бездну ощущений. Он то проваливался куда-то, то вдруг видел, как органично они добавляли собой все вокруг, и он начинал недоумевать: как могла природа еще каких-то пять минут быть без них. То совершенно понятных и земных существ, то вдруг непостижимых, обескураживающих, заставляющих тихо сидеть, окунувшись лицом в теплый парной воздух над вечерней озерной водой с лилиями.
Греховных мыслей не было. Их просто не могло еще быть.
…Аксюта тем временем зашла чуть выше колен в воду и со смехом, поднимая крупные брызги, плюхнулась в воду. «Не перебабилась еще», – вспомнил он непонятное для него слово, услышанное за столом после помочей.
Шурка встал и, не скрываясь, пошел на стан. «Моя мама не такая, у нее язык не повернется так сказать, как сказала красивая Ганя, даже подумать не сможет», – для чего-то убеждал он себя.
Два Василия
– На-ка вот… Опять обмишурилась Варька-почтальониха. Шуркина мать протягивает почтовый конверт.
– Он же нераспечатанный, мам, – Шурка берет в руки серый с пятнами конверт.
– Ну и что, я вижу номер дома двадцать, а у нас – двадцать четыре, там и улица, значит, другая.
Шурка вслух читает: село Утевка, улица Садовая, дом двадцать, Василию Федоровичу Любаеву.
– Это нам, мам, все-таки!
– Да нет, грамотей, улица Садовая. Пойдешь за хлебом в магазин – занесешь.
– Ладно.
Василий Федорович, который живет на Садовой, и его полный тезка – Шуркин отец, живущий на Центральной, – родные братья. От того и путаница.
В гражданскую, когда молодой еще дядька Василий воевал у Чапаева, ранило его в легкое. Умирать приехал домой к матери своей Прасковье. Плохой был, и все решили, что он уже не жилец на этом свете. А тут у Прасковьи и Федора родился еще сын, вот и решили его назвать Василием – в память о старшем умирающем сыне. Но старший выжил.
Выжил и младший. Так у Любаевых стало два Василия, а отец Федор вскоре умер от непонятной болезни, поехав в Уральск за солью.
Когда Шурка пришел с письмом, хозяин дома сидел на пороге у сеней и разбирал мокрую рыбацкую сетку, сын его Сергей тесал срубовину посредине двора. Щепки, освещенные майским ласковым солнцем, излучая теплый свет, отлетали в сторону гостя. Одна щепка упала лодочкой к Шуркиным ногам, как утица, закачалась с боку на бок и затихла, коричневенький сучочек как глаз уставился на Шурку внимательно и таинственно.
– Гость пришел! – зорко глянув на Шурку, крикнул дядя Василий. – Мать, давай нам аряны.
Вышла тетка Машурка с бидончиком кислого молока, разведенного холодной водой, который, очевидно, был у нее припасен заранее и хранился в темных сенцах.
– Держи. – Она вручила Шурке пол-литровую белую кружку с помятым краем и, помешав в бидончике большой деревянной ложкой, налила.
Шустрая оса села на край бидона, и Шурка замахнулся.
– Не тронь, она улетит, не злые они сейчас, – сказал дядька Василий и принял посудину из рук жены, аппетитно заработал кадыком.
– Ну, придудонился… Так нельзя, Вась, горло перехватит.
– Ничего, мать, не бойся, хорошо больно, – он ответил не сразу, а после того как напился и поставил подчеркнуто деловито бидончик на траву около своих ног.
– Лепота-то какая, а?!
– А что это такое, дядя Вася? – спросил Шурка.
– Что?
– Ну лепота?
– Красотища, значит, что же еще? Не понятно, что ли, чему вас только в школе учат, аль сам не чувствуешь?
– А почему обязательно сруб колодезный делают из ветлы? – перевел Шурка разговор в деловое русло.
– Не обязательно, – возразил дядька Василий, – но желательно из ветлы. Видишь ли, береза в земле не лежит, осина дает горький привкус воде, а ветла и в земле лежит долго, воды не портит, и вкус от нее лучше.
– А сруб куда?
– Как куда? Вам.
– Нам?
– Ну да. Брательник сказал: колодец в огороде будет делать.
– Вот здорово, – обрадовался Шурка.
Шурка смотрел на щуплую фигуру хозяина двора, на его прокуренные усы, неровные плечи, дырявые галоши на босу ногу, и ему не верилось что перед ним участник героических дел.
– Дядя Вась, а какой был Чапаев?
– Обнаковенный, какой… – сказал тот с ходу.
– Ну не может так быть!
– Заряженный был, понимаешь, – спохватился Василий, – понимаешь, заряд в нем большой был, большого калибра, пороху больше, чем у остальных, везде хотел быть главным, начальство сверху не любил.
– А сильный был?
– Нет, были здоровее мужики. – Помолчал, потом добавил: – Страху не ведал, али жизнь не ценил свою, а значит и чужие, не знаю, сразу не скажешь. Я в артиллерии был, нечасто его видел, но знал. В артиллерии попроще. А вот в кавалерии, брат, цельная наука. Жестокая наука.
– Почему жестокая?