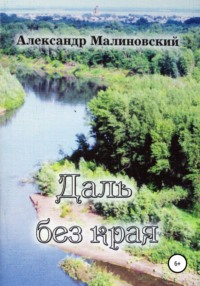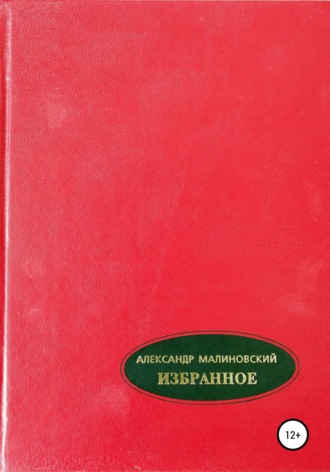
Полная версия
Избранное. Том 2
– А вот и хорошо, что боишься. Наши-то уже ничего не боятся, в этом все и дело! Вот вам слова, быстренько переписывайте и учите, на следующей неделе начнем репетицию. Возьмите повесть Пушкина – почитайте. Я проверю.
Вышли на улицу, и получилось так, что Шурке и Верочке по пути – обоим надо в библиотеку.
– А что вы берете читать? – спросила Шуркина спутница.
– А что дадут.
– Как это?
– Все, что положено, я уже прочитал, теперь – что положено старшеклассникам.
– А «Королеву Марго» читали? – спросила она. – У вас тут есть такие книги?
Шурка давно уже прочел всего Дюма, но он не стал говорить ей об этом, ему не хотелось, чтобы она подумала, будто он хвастлив.
– Да, – сказал он.
– А можно нескромный вопрос?
– Можно, – охотно сказал он.
– А почему у тебя фамилия нездешняя?
Она легко так перешла на «ты».
– И у тебя тоже, – сказал он.
– Я – это другое дело.
– Какое другое?
– Я приезжая, а ты?
– Я здесь родился, разве это плохо?
– Нет, – сказала она и немножко помолчала, – я о другом. Ну, не хочешь об этом, не говори.
Она еще раз посмотрела на него в упор, внезапно засмеялась и сказала, скорее, видимо, для того, чтобы только не молчать, так ему показалось:
– Мне сказали, что ты круглый отличник, да?
– Да.
– Но отличников везде не любят, так ведь и у вас в школе?
– У нас по всякому, я тоже отличников не люблю.
– А сам?
– У меня просто так получается, я не умею зубрить.
Она посмотрела на него внимательно:
– Воображаешь?
– Нет, – сказал Шурка, и ему стало неловко.
Получалось все-таки, что он хвастался для чего-то, а ему этого и не надо было. Ему просто хотелось с ней говорить, ему нравилось, как она смотрела не стесняясь и как улыбалась сама себе.
Когда пришли в библиотеку, он намеренно отошел от Верочки к дальней полке. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как она на него смотрит. Он был уверен: так смотрит она только на него.
Чужаки
В окрестностях Утевки, Зуевки, Кулешовки обнаружили нефть. Заработали несколько скважин. Поползли слухи, что на месте Утевки или вблизи будут строить город нефтяников.
– Беда-то какая, – крестилась Шуркина бабушка на образа.
– Будет тебе, никакой беды, – успокаивал ее Федор Остроухов.
– Народу нагонят, вот и беда. Где в одном месте народу много, тесно, там завсегда беспорядок, – не сдавалась та. – Избу не закрывала на замок, теперь – надо будет.
…Она оказалась и на этот раз права.
Расположившиеся в поселке Ветлянка молодые бойкие нефтяники стали наезжать в Утевку по вечерам на танцы. Часто это кончалось дракой. Свидетелем одной такой схватки оказался и Шурка. Он выходил после репетиции из клуба и увидел, как красивый, спортивного вида парень спокойно стоит у крыльца и курит. Это был чужак. Он миролюбиво поглядывал на проходивших, и весь его вид показывал, что он не желает никому зла. Не тут-то было. Невесть откуда появился маленький верткий Гнедыш и, резко подпрыгнув, сорвал с незнакомца модную фуражку, тут же, ловко держа ее за козырек, сильно запустил над головой, и она, описав большую дугу, улетела за дровяной сарай. Чужак не побежал за ней. Он резко шагнул в сторону налетчика и наступил ему на ступню, тот, пытаясь вывернуться, тащил ногу к себе.
– Принесешь кепку – отпущу, – сказал чужак.
– Больно, пусти! – неестественно громко закричал Гнедыш.
И это прозвучало как сигнал. Из-за дровяного склада вышло больше двух десятков сельских ребят, вооруженных кольями. Они выстроились в два ряда, образовав узкий коридор, куда должны были попасть все, кто выходил из клуба. В приготовленном сценарии было все предусмотрено.
Танцы закончились, народ хлынул, и приезжие оказались встреченными во всеоружии. Но не тут-то было. Чужаки были опытными бойцами. Прямо у входа в клуб начинался деревянный забор из штакетника длиной метров тридцать. Через считанные минуты этого забора не было; мгновенно оценив ситуацию, чужаки метнулись к нему – штакетницы оказались в ловких и крепкие руках. Рукопашная, сопровождаемая треском деревянного оружия и резкими криками, развернулась вначале у клуба, затем нефтяники стали отступать по улице к своему автобусу, но без паники и как-то, удивительно для Шурки, организованно. Похоже было, что они оборонялись так не впервые…
Три последующих дня угрюмый Коныч со своим сыном восстанавливали ограду.
– Они девок делят, а я без работы не буду, – говорил он.
Эта история имела свое продолжение. Шурку мать послала за постным маслом в магазин. На дворе стояла теплынь. Была пасха. В проулке, около Ваньковых, взрослые ребята играли в орлянку, туда Шурка не стал заходить. Посмотрел со стороны на нарядную пеструю толпу и пошел дальше. Не то чтобы ему было неинтересно, просто он торопился. Но вот мимо двора Ракчеевых пройти не мог. Этот двор, весь освещенный солнцем, сухой и приветливый, встретил Шурку разноголосицей большой ватаги ребятишек и парней.
Около старой травокоски, вросшей колесами в землю, на ровной площадке стояли три гири. Валерка Салтыня, сняв белую рубашку, подошел к самой большой – в два пуда. Поплевал на ладони. Не спеша поиграв растопыренными пальцами, он резко рванул железное чудовище на себя, и гиря оказалась у него на плече. И тут произошло самое главное: выбросив левую руку горизонтально в бок, правой Салтыня не спеша, монотонно и спокойно, как какая-то очень крепкая машина, выжал вес подряд пять раз. Все ахнули.
Шурке захотелось подойти и попробовать поднять полупудовую гирю, но он почему-то медлил. Его опередил Мишка Лашманкин. Он взял «полпудник», подкинул вверх, и ловко крутанув, на лету поймал за ручку.
Шурка опешил. Он не ожидал от Мишки такой ловкости и уверенности.
На другом краю двора свой интерес. Здесь чокались: крашеными луковой шелухой или чернилами пасхальными яйцами играли в азартную игру. Били тупым или острым, как сговорились, концом яйцо соперника. Если твое целое – ты выиграл.
Тут-то Шурка и пожалел, что не захватил с собой из дома писанку – крашеное на особинку яйцо. На него бы он точно выменял три, а может, и больше, яйца, на выбор. И сыграл бы.
У всех обычные пасхальные яйца: крашенки. А писанки готовили по-иному: прежде чем яйцо опускать в чернильный или луковый раствор, его причудливо расписывали воском на свой вкус и лад. Для этого пользовались гусиным пером. Обрезав самый кончик, набирали в перо плавленый горячий воск и быстро выдавливали на яйцо. Воск застывал. Яйцо с рисунком бросали в красящий раствор, когда воск исчезал – на его месте на скорлупе возникал рисунок. Такое пасхальное яйцо ценилось вдвойне.
Только Шурка решился раздобыть яйцо, чтобы попробовать сыграть, как во двор вошел Валька Рязанов. Шурка тронул его за рукав:
– Валь, ты что так вырядился? – и показал пальцем на темно-синие галифе, в которых был его приятель. – Помереть же можно со смеху, все в шароварах уже, тепло как!
– Пойдем в огород, за сарай, объясню.
Когда они зашли за укрытие, Валька запустил руку в штанину и вынул огромный старинный револьвер.
– Во, смотри!
– Вот это да! – только и выдохнул Шурка, – откуда это у тебя?
– Понимаешь, дед умер в прошлом году, он когда-то богатым был, пряхи делал, всякие вещи из дерева, даже деревянный велосипед, а в этом году стали печь ломать, разобрали когда, я смотрю – тайник в стене в подполе, ткнулся: ящик со старыми деньгами и вот он.
– Что же теперь с ним делать?
– Не знаю, поносить охота с собой. У него пружина очень тугая или заржавела, я не осиливаю курок одним пальцем спускать. Надо разбирать и смазывать.
Шурка смотрел на покрашенный светлой краской с костяной ручкой наган и не мог отвести глаз. Вид настоящего, может, уже бывшего когда-то в деле оружия завораживал.
– Сань, может быть, из такого в Пушкина стрелял Дантес, а?
– Отец знает про пистолет? – побеспокоился Шурка.
– Нет, я только деньги всем показал.
– А патроны?
– Вот! – И Валька протянул на ладони пять патронов.
Шурка взял один. Гильза была длиной сантиметра два, сама пуля, неприятно тупорылая, оказалась короткой – всего в один сантиметр.
– Тяжелое все какое, – подытожил Шурка.
– Вот поэтому я не в шароварах, а в галифе. Шаровары спадают от него, резинка не держит. У меня Генка Афанасьев очень его просит.
– Зачем? – удивился Шурка.
– Да, говорит, попугать, когда надо, чужаков с Ветлянки, а то везде свои порядки устраивают.
– Эх, – спохватился Шурка, – меня же мама в магазин послала.
– Ну иди, – деловито сказал Валька, – потом обсудим, как быть.
За воротами, около палисадника, Шурка увидел Димку Чураева. Вывернув оба кармана брюк, он стоял на солнышке, похожий в этой позе на странную птицу.
– Дим, ты чего? – удивился Шурка.
– Да, дурак Антон со своими дружками, я их обыграл: накокал больше десятка, все их крашенки у меня в карманах были, а они догнали, когда уходил, и хлопнули по ним с обеих сторон, а там всмятку были какие, одно яйцо-болтун. Кишьмишь устроили, сохну теперь.
Он шмыгнул носом и безбоязненно пообещал:
– Я им казнь придумал. Попомнят у меня!
…Шурка уже купил масло, когда вошли трое приезжих ребят, и в первом из них он узнал того красивого, спортивного чужака, на которого налетел Гнедыш.
– Толик, – обращаясь к нему, сказал тот, что шел за ним, – давай побыстрее, а то нас тут заловят, по-моему, я одного видел из тех.
– Да сейчас «Беломор» купим и едем, ладно гиль нести.
Направляясь в книжный магазин, Шурка увидел Генку Афанасьева, который в прошлой стычке у клуба возглавлял нападающих. Тот метнулся в сторону мастерских.
«Он их засек, – отметил Шурка, – что же будет, этот Генка настырный».
…Когда Шурка вышел из книжного, все уже свершилось. Генка Афанасьев лежал на весенней земле. Из его левого виска сочилась кровь. Он был мертв.
Стоявшая у пивного киоска Пупчиха, всхлипывая, говорила:
– Наши-то, дураки, впятером окружили их и давай воротники на рубахах им рвать, а Толик-то ихний, мне все слыхать из окошка, и говорит: «Что, слабо один на один, впятером либо всей деревней только смелые, да?» Так вот они подергались и решили по-честному. Один на один. Толик и Афанасьев, значит. Афанасьев первый ударил, да так, что энтот самый Толик загнулся крючком весь. А потом вдруг, и непонятно мне как, красавчик этот мотнул рукой – и наш на земле на карачках, то ли споткнулся, то ли как. В горячках Толик ударил его ногой и попал сапогом прямо в висок. Нет Генки теперь.
Прибежал милиционер Вася Берлин, за ним появились еще два молодых незнакомых сержанта. Никто из участников стычки и не собирался убегать. Всех потрясла неожиданная смерть.
Толик сидел на пороге магазина, обхватив голову руками. Пальцы рук его вцепились в лихой черный чуб.
Пупчиха плакала. Не стирая слез с красных пухлых щек, проговорила нараспев, глотая слова:
– Обо-иих ведь жа-ал-ка, оба ду-раки. Одно-му-у-то все едина теперича, а эттому Толику вся жизнь как в про-оо-пасть, а…а… тюрьма…
…Вскоре в Утевке начали поговаривать, что первый секретарь райкома Бурцев сильно против того, чтобы город нефтяников строили около села, он опасался и за село, и за Самарку, поэтому вроде бы идут споры. А потом разнеслась новая весть: знаменитый начальник нефтяников Муравленко, которого никто в селе никогда не видел, поддержал Бурцева, и решено город, название которого будет Нефтегорск, строить в степи, около поселка Ветлянка, далеко от Утевки.
– Слава тебе, Господи, – отозвалась на это бабка Груня. – Бог миловал!
И перекрестилась.
В Лаптаевом переулке
Только-только Шурка пришел из школы, хлопнула калитка, и вошел Андрей Плаксин:
– Шурк, в лапту пойдем играть?
– Ага, а кто будет?
– Да Чугунок, Микляй, Валька Бесперстова, еще там пацаны наши.
Всех соберем, кого надо.
Едва появлялись долгожданные подсыхающие поляны, ребятню неудержимо тянуло в Лаптаев переулок играть в разные игры.
Климановых, хозяев крайнего дома в переулке, давно уже никто не знал, с коих пор звали по-уличному – Лаптаевы. Их пятистенник, открытый окошками с резными ставнями на большую поляну, – давний свидетель ребячьих забав. Частенько стайка ребятишек прибивалась к Лаптаеву палисаднику и гомонила там в своих заботах. В такие моменты дядя Коля степенно выходил из дому, неспешно и незлобно кшикал как на кур, отгоняя их вновь на поляну.
– А я сегодня хотел доделать свою клюшку, – спохватился Шурка.
– Новый чекмарь? – спросил Андрей.
Ему больше нравилось такое название клюшки.
– Конечно, вчера с дедом были на Подстепном, там знаешь, где большая поляна чилиги, их полно, я и вырезал две чекмары.
– Вязовые вырезал? – деловито переспросил Андрей.
– Нет, из некленника.
– Покажи, а?
Шурка пошел в сени и вынес полутораметровой длины палку, прихотливо изогнутую снизу. Эта изогнутая палка и была всегда предметом зависти всякого игрока, ибо она служила для того, чтобы гонять по траве или по льду шашку – кусок крепкого дерева или другого материала, часто консервную банку.
У Андрея загорелись глаза:
– Эх ты, а я еще не успел себе вырезать. Давай завтра сходим вместе, давай?
– На, это тебе, – Шурка протянул клюшку Андрею.
– Ты что, Шурк, – выдохнул тот, – да у меня такой сроду не было, вообще такой удобной чекмары я ни разу не видел ни у кого.
Он ошалело крутил в руках подарок.
– Ты же себе это сделал?
Шурка молча пошел вновь в сени и вернулся с палкой, похожей на ту, что он отдал приятелю.
– Это будет моя.
Андрей был сражен.
– Эх ты, – сказал он. И эта емкая фраза вобрала в себя все: и восхищение, и благодарность, и многое-многое другое, что Андрей, очевидно, чувствовал, но не имел понятия, как это все называется. И зачем ему это знать?
Вот есть друг, есть теплый весенний воздух, пахнущий талой водой, подогретой ласковым солнцем, землей, кое-где уже пробитой зеленью и есть еще после школы целая половина дня.
На Андрея напала жажда деятельности.
– Давай все для чекмары сделаем, а завтра сыграем.
– Давай, – согласился Шурка, – и начнем с шашек.
Шурка сбегал на зады, принес крепкий, толщиной в руку, обрубок татарского клена, и они поперечной пилой отпилили три шашки. Андрей тут же во дворе попробовал шашку и клюшку в деле, погоняв по земле, а затем с силой запустив шашкой в деревянные ворота. После этого он остался очень довольным. Яркий, с вельможной походкой соседский петух после удара Андрея панически, растеряв всю свою величавость, совсем по-дворовому, перескочил через плетень и был таков.
– Правильно, нечего на чужом дворе делать, совсем задолбил нашего, – подытожил Шурка.
Вооружившись лопатой, они пошли на Лаптаеву поляну. Поляна была уже почти сухая и прогретая. Только у плетней, у кучи березовых бревен лежал ноздреватый снег, покрытый сверху толстым слоем грязи.
Они быстро отыскали ровное местечко, и Андрей начал копать центровую лунку – котел величиной не более обычного ведра. Затем надо было ровно по кругу расположить пять-шесть лунок.
Андрей присел на корточки в котле и, выставив перед собой на вытянутых руках чекмарь, скомандовал:
– Крути!
Придерживая конец выставленной клюшки, Шурка прошелся по кругу, оставляя за собой протоптанную дорожку в прогретой майским солнцем земле.
По этой окружности они и выкопали немного поменьше, чем центральный котел, шесть лунок.
Игра в чекмару состояла в следующем. Игроки, каждый из которых вооружен клюшкой, занимали по лунке. Игроков должно быть на одного больше, нежели количество лунок, не считая котла. Цель игрока, остающегося, после того, как поконаются без лунки, занять ее. Он начинал «маяться»: пытался клюшкой послать шашку в котел. Если она достигала цели, то игроки должны были мгновенно меняться лунками (конец клюшки-чекмары должен был торчать в лунке). При этом захвате лунок тот, кто «маялся», мог занять себе лунку, естественно, кто-то оставался без нее и оказывался в роли «мающегося». Сложность была в том, что стоявшие по кругу игроки отбивали шашку как можно дальше от круга, не подпуская к котлу, и за ней приходилось далеко бегать. И хитрость в том, что ловкий игрок, который «маялся», мог просто, без попадания в котел, занять лунку. Это случалось тогда, когда он, лавируя корпусом и ведя шашку к «котлу», вынуждал одного из игроков замахиваться клюшкой, и в это время оставшуюся без хозяина лунку мгновенно занимал сам, ткнув туда свою чекмару.
Андрей приплясывая утоптал игровой круг, взял клюшку, ловко пульнул шашку в котел и остался доволен:
– Чугунка до слез замаем завтра!
Шурка представил, как будет «маяться» хитрый, находчивый Чугунок, которого с четвертого класса зовут так потому, что он в тетрадке нарочно, для смеха, написал вместо «чугун» – «чгун», а вместо «кастрюля» – «кастура», и ему стало заранее весело.
«Чугунок ведь не заплачет, а, наоборот, всех насмешит только», – хотел сказать Шурка, но почему-то промолчал. Наверное, от того, что не хотелось возражать деловому Андрею.
Под синей юбочкой
Саман решили делать на выгоне, за колхозным общим двором. Дядя Федя Остроухов, копнув раза три лопатой, долго и серьезно рассматривал серенькие кусочки земли на ладони, а Шуркин дедушка сказал:
– Чего ее изучать-то, вон сколько вокруг изб, уж который год стоят. Мерекаешь попусту.
– Оно, конечно, может, и так, но все-таки… – держал свой фасон Остроухов.
Едва вскрыли круг, приехал верхом на колхозном знакомом мерине дядька Сергей и привел с собой еще одну буланую кобылу. Их пустили мять эту большую лепешку.
Воду возили из Приказного.
На трех подводах Шурка, Андрей и Валька Рязанов с грохотом порожняком мчались к озеру и лихо въезжали в воду, а там веселая Аксюта и еще незнакомая одна девка, войдя по колени в воду прямо в платьях, под июньским ласковым солнцем наливали ее в бочки. Перед тем как выезжать из воды на берег, Шурка накрывал мокрой мешковиной горловину бочки, чтобы вода не плескалась. И каждый раз ему чудно было глядеть, как в бочке глупо смотрели на него крупные головастики.
А на выгоне шла своя работа. Как только Шурка подъезжал с водой, мужики вагой разворачивали бочку, и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.
В одну из поездок с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, и она, разворачиваясь, поползла к дороге. Это все увидел Шурка стоя сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.
В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, которая большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигалась на него, Карий прыгнул резко влево. Шурку вместе с бочкой снесло в сторону газеты на землю. Бочка, громыхая, покатилась к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же резко вскочил на ноги, их как будто не было, и он вновь оказался на земле. «Ноги отнялись», – со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Шуркина левая рука лежала на газете, он провел ею по странице, она выпрямилась, и он прочел: «Волжская коммуна». «Деда всегда ее читает», – подумал он и вяло перевернулся с живота на бок.
А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подводили Карего, водружали бочку на дрожки, с Шуркой все прошло. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошел к повозке.
– Матери скажи, что ушибся, ездок, – сказала ему вслед хозяйка дома.
– Ладно, – неопределенно отозвался Шурка погоняя Карего.
Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.
Саман смяли и начали выкладывать станки чуть поодаль на ровном месте. На жести волоком подтаскивали раствор и заполняли большие формовочные станки, уминали ногами. Затем их поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.
…На второй день помочей вечером все, кто помогал, гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наровне со всеми за стол на лавку, вернее – на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.
Пили «Под синей юбочкой» – так называли денатурат за его цвет.
Его пили и женщины. Самогонки не было – боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева – балалайка. Они сели в торце длинного стола на виду у всех.
После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:
Повели меня на суд,А я вся трясуся.Присудили сто яиц,А я не несуся!– Вот баба, – сказал восхищенно захмелевший старый дед Проняй, – кого хочешь в косые лапти обует.
– Да ладно, она, по-моему, еще не перебабилась, – непонятно возразил его сосед.
Шурка невольно слышит весь разговор.
– Ловко она про яйца, – тянул свое Проняй, – моя тоже еще только двадцать штук сдала, молока тридцать литров еще надо сдать. А где брать-то? Дела…
– Где, где, – возражал сосед – дальний родственник Синегубого, – вон Шуркина мать выкручивается, Василий подшивает валенки, а она покупает масло, молоко и сдает. Шурка, тебе мать когда-нибудь масло мазала на хлеб?
– Нет, – сказал Шурка, – у нас масла не бывает, молоко съедаем.
– Вот видишь, откель масло брать, с моими глазами только валенки и подшивать, – не сдавался Проняй.
Шурка, глядя на пляшущих в кругу, думал: «И почему все люди делятся на русских, украинцев, поляков, турок и других? Нельзя ли так, чтобы все были одинаковой национальности? Все были бы равными. Все бы веселились как сейчас». Об этом он сказал дядьке Сереже.
– Ага, – подхватил Серега, – и все одного цвета бы: негры, цыгане, папуасы, англичане – все белые, нет, все черненькие, ага? И все на одно лицо. Мировая скукота.
– Да ну тебя, я серьезно.
Запели «Катюшу». Шурке подумалось, что эта песня про его мать.
Только в жизни все сложнее и тяжелее, чем в этой красивой песне. Для того и песня, чтобы легче жилось.
Шуркина мать, Катерина, когда пели эту песню, никогда не подпевала, всегда только слушала глядя кротко и ясно перед собой.
…На Шурку навалилась вялость. До этого начало звенеть в голове, хотя, разумеется, он не пил спиртного. Он встал и пошел спать к деду в мазанку. Мать только и успела сказать вслед:
– Шура, ночевать приходи домой.
– Ладно, мам.
А Аксюта все веселилась: «За мной мальчик не гонись – у меня есть другой», – слышался ее разудалый говорок.
…Шурка проснулся и сразу понял, что уже поздно: в маленьком оконце мазанки света не было. Он вспомнил, что обещал ночевать дома и заторопился. В избе деда – все уже спали. Со стороны клуба, который находился метрах в двухстах, доносилась музыка. «Раз танцы не кончились, значит двенадцати нет», – определил Шурка. Легонько стукнув калиткой, он пошел по задам – так короче, метров триста. Шурка не прошел и половину пути, ноги подкосились, как тогда, днем, после падения с дрожек.
Вначале он ничего не понял, сгоряча попытался вскочить, но вновь оказался на пыльной дорожке. Обожгла мысль: «Кто-нибудь поедет и задавит, как кутенка. Надо отползти в сторону». Отполз ближе к плетню, и тогда только ужаснулся: а если это навсегда? Мать умрет с горя, ей и с отцом нелегко: она его каждый день обувает и брюки помогает надевать – он сам не может. Правда, в последнее время брюки он научился надевать сам: бросает их на пол, бадиком подшвыривает штанину на прямую левую ногу, крючком за пояс подтягивает вверх, а уж потом становится на прямую левую, а правая у него действует как у всех.
«Карий, Карий, какой же ты дурак!» – с горечью подумал Шурка.
Под локтем оказалась какая-то кучка травы, он подмял ее под себя, стало удобнее. Боли почти не было, только жгло ушибленный локоть, где слезла кожа, и саднило в пояснице, но терпимо. Он повернулся на спину. Широко распахнувшись, на него смотрело небо. Звезды, крупные и мелкие, рассыпавшись во все стороны, светились ясно. Под этим бездонным взглядом он не почувствовал себя маленьким и убогим, а принял чистый теплый взгляд и удивился тому, как стало ему вдруг спокойно, а возросшая уверенность в себе уже толкала его что-то делать энергичное и нужное.
«Неужели там, над нами, действительно кто-то есть, раз так происходит все во мне, но о чем никому не расскажешь?..»
Шурка лежал под открытым небом. Большая Медведица, чудно наклонив свой ковш, висела как на большом гвозде.
Он почувствовал, как сильно всех любит: маму, бабушку, деда… обоих своих отцов, который есть и которого он никогда не видел, вообще все вокруг.
Замелькали летучие мыши. Пролетела, таинственно прошелестев крыльями, сова.
«Танцы кончатся, ребята направятся домой, может, кто пойдет задами и меня заметят».