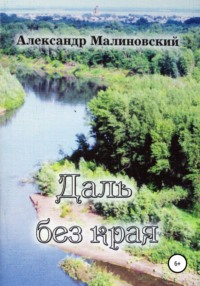Полная версия
Собрание сочинений. Том 3
Он повернулся. Перед ним стояла блондинка, вровень с ним ростом, крупноголовая, большеглазая, в светлом легком костюме. От всего этого внезапного чуда веяло элегантной крепостью и ухоженностью.
– Вот можно, – проговорил Кирилл, чувствуя, что с ним что-то сейчас происходит такое, что бесследно уже не исчезнет. В любом случае это начало чего-то…
Она стояла от него в полуметре, а он ощущал обволакивающее тепло, идущее от нее.
Она, кажется, понимала его состояние. В ее прямом взгляде была смесь мягкой снисходительности и покровительства.
«Вот ведь, слету и попался», – Кириллу показалось обидным, что его прямо голыми руками запросто берут, но он ничего не успел ни сказать, ни сделать. Она опередила:
– Я врач, у меня на первом этаже номер, сбегаю, кое-что принесу, у меня есть…
На следующий день он пришел к Светлане, так звали это чудо, на перевязку. В тот же день они направились на пляж. Так начинал раскручиваться их сочинский роман…
…Его вначале обескураживало то, что в самые интимные моменты близости она могла царапаться, кричать и кусаться. Светлана в такие минуты не владела собой. Ей нужен был экстаз любой ценой, она заводилась с пол-оборота, проявляя завидную выносливость на пути к желаемому и требуя этого от него. Он иногда терялся от ее буйного желания. И не вполне понимал, хорошо это или плохо, так хотеть женщине мужчину. Такой женщины у него никогда не было.
Уже потом, много позже, когда пошло повальное увлечение гороскопами и сексуальной астрономией, он к удивлению своему обнаружил, что женщины-Козероги (а Светлана была Козерогом) именно этим свойством и наделены. Он и удивился, и немного расстроился. Оказывается, все заложено в природе ее любви небесами, а он-то все-таки думал, что это он причина такого ее поведения. Значит, будь на его месте другой, небезразличный Светлане, она так же бы вела себя в постели? Поначалу ее чрезмерная самостоятельность во всем не давала ему покоя, но потом это как-то сошло на нет. Постепенно он свыкся с ее независимостью, с ее постоянным отстаиванием права на собственное мнение. Его влекло к ней. Кирилл даже упрекал себя за эту слабость.
У Светланы муж не мог иметь детей (они проверялись у врача), а она очень хотела.
– Ты немка, а он кто?
– Он – русский. Мать мужа советовала, чтобы я прижила ребенка на стороне. Но я не могу, вот. Наконец развелась полгода назад и приехала отдохнуть от всей этой карусели, я в отпуске не была два года.
– Приехала подыскивать мужа?
– Наивный ты, здесь не мужей ищут, а любовников.
– Так ты повеселиться приехала?
– Глупый, отстань, – сердилась она.
– Как ты собираешься жить?
– У мамы. Она одна, у нее двухкомнатная квартира в Свердловске. Ты бывал в Свердловске?
– Нет, но я спрашиваю «как», а не «где».
– А как все, и еще лучше! Хочешь, я спою тебе свердловский вальс?..
И она, встав в кровати в одних трусиках, начала напевать, раскачиваясь. Но на кровати было неловко и она спрыгнула на пол. У него от нее слепило глаза и в голове стучала кровь.
– Я приеду к тебе и мы будем жить вместе.
– Но я не собираюсь жениться, – все-таки сопротивлялся он.
– Ну и не женись. Найдешь где нам жить?
Кирилл не узнавал себя. Ему приходилось подчиняться взбалмошной подруге. Его как будто несло течением. До этого с ним такого не было.
– Я твоя женщина. Я тебя вижу насквозь. Я сделаю тебе только хорошее. В тебе слишком много добродетели. Фу, это очень скучно бывает, понимаешь? Нужно хоть чуть-чуть куражу! Да!
«Да, да, я это понимаю, но я вот такой. Вот тебе мой кураж: если я женюсь на тебе, это будет отклонением от моих планов: оставаться холостяком до тридцати лет».
…Однажды, когда они, утомленные, в очередной раз пришли с пляжа в ее номер, она, едва сбросив халатик, поймала его в свои объятья. Он и сам ждал этого момента, но она его во всем опережала.
Кирилл замешкался со своими тесемками на плавках, затянувшимися в тугой узел. Она, ловко выскользнув из-под него, схватила со стола ножницы.
– Не могу смотреть, как ты каждый раз трясущимися руками развязываешь свои бантики! Что за дурацкие плавки… Чик – и готово. После я вставлю тебе резинку, ты что так смотришь? – она бросила ножницы на стол.
– Да нет, ничего, – промямлил он. – Ты очень деловая.
– Такая вот тебе попалась.
Его много в ней смущало. И, как ни странно, еще больше – притягивало.
– Сколько у тебя было до меня? – тусклым голосом спросил он.
– Посмотри на меня, я красивая, молодая – сейчас люблю тебя – разве этого мало?
Да. Она была красива. Она была породиста. Его всегда манили такие женщины.
…Дней через десять Кирилл начал собираться домой.
– Ты от меня уезжаешь! – неподдельно обиженно воскликнула она, и Кирилл почувствовал себя неловким подростком. Дело было еще в том, что у него просто кончались деньги и ему не хотелось в этом признаваться.
Когда же, наконец, он сказал ей об этом, явно смущаясь, больше боясь почему-то, что она сейчас примет его за беглеца, она решила этот вопрос просто.
– У меня есть деньги. Нам есть на что здесь жить вместе хоть месяц. Месяц в Сочи – это неплохо, а?
– Как так? – удивился он.
– Я дам тебе их. Сколько: двести, триста?
Он был растерян:
– Я не могу у тебя брать деньги, это черт знает что.
– Возьми в долг. Потом отдашь, хочешь, с процентами, – она весело расхохоталась, – оба выиграем.
– Когда отдам? – удивился он. – Где?
Логика ее рассуждений была, что называется, железная:
– Ну, у тебя же будет время! Когда мы поженимся.
– Что? – выдохнул Кирилл. – Ты, наверное, забыла, я тебе говорил, что собираюсь стать писателем, подготовил рукопись стихов. На следующий год буду поступать в Литературный институт.
– Ну и зачем?
– Чтобы стать писателем.
– Миленький мой, жить надо. Жить. А уж потом писать, глупенький ты мой. Узнать жизнь, женщин, увидеть мир – это же главнее всего.
– Ты так уверенно говоришь об этом, – удивился он.
– Потому что не хочу становиться писателем, во-первых, у меня нет таланта, во-вторых, это скучно. Миленький, поступишь на дневное отделение – ни денег, ни жилья нормального. Через пять лет выпустишь маленькую книжечку стихов: жены, то есть меня, у тебя нет, детей нет, будущее призрачно.
«Боже мой, безденежье и неопределенность однажды уберегли меня от женитьбы, а теперь те же доводы приводятся, но за женитьбу», – думал он.
А Светлана продолжала:
– У меня подруга кончила Литинститут, правда, заочно. Ну и что? Литсотрудник в заводской многотиражке. Гениально! И книжки еще нет своей.
…Оставшись у нее ночевать, он ночью написал для нее стихотворение, назвав его «Встреча в Сочи».
Все начиналось так, между прочим…Куда ж несерьезность моя подевалась —Нас тешило море, нас тешил Сочи,Не тешило время нас, время – мчалось.День предыдущий и день настоящий,Снабдившие солнцем меня про запас,Кажутся мне кораблем уходящим,Кораблем, уносящим частичку нас.Светит ли солнце, хмурится небо ли —Кто мы, откуда? Какого мы племени?Приходят, уходят – тают в небылиДни корабля в океане времени.– Какой ты молодец! Умелый, опытный конспиратор! Я не предполагала. Ты, наверное, опасный сердцеед, только прикидываешься теленочком.
– Почему? – удивился он такой неожиданной оценке.
– Все про нас и нигде нет ни моего, ни твоего имени. Ты так осторожен?
– Я об этом совсем не думал, – обескуражено проговорил он. – Ты на все смотришь по-своему.
– Какой же ты у меня ребеночек, ну какой же из тебя сейчас писатель. Писатели – народ матерый и бывалый.
В одну из их встреч, когда они вышли из гостиницы и направились на пляж, она спросила:
– Как ты оказался на заводе?
– Не понял.
– Ну ты же не технарь, ты – гуманитарий.
– Я, скорее всего, пролетарий. И ты убедишься в этом, если действительно приедешь ко мне. У меня общежитие, завод и больше ничего нет. Да больная мама, – добавил он задумчиво.
Она, казалось, его не слышала.
– Зато ты мне очень нравишься!
В другой раз, утром, когда он, отлепившись от нее после сна, потихоньку, чтобы не разбудить, встал и подошел к окну, она неожиданно сказала:
– Ты не думай, что я нехорошая. Я – хорошая! – при этих словах глаза ее повлажнели. – У меня, кроме мужа, никого не было. Правда, был один, но он ближе, чем на полметра, ко мне не приближался. Любил и боялся меня. Такой вот был. Может быть, ему и цены не было бы. Но я была совсем равнодушна к нему. А с тобой у меня все непроизвольно. Я нашла тебя. Ты – мой мужчина.
– Ну и ну, – мотнул он головой, отходя от окна.
– Что «ну и ну»? – Она уже сидела на кровати, обхватив руками коленки.
– Складно все, как в кино. Красиво, а по сути ты врываешься в мою жизнь.
– Вот тебе!
И она запустила в него подушкой, вместе с ней в него полетели и ее, с белыми кружавчиками, светлые трусики.
Поднимая их с пола, она вздохнула:
– Вот она, проза жизни!
– Ты бесподобна, – вырвалось у него.
– Я знаю, – воинственно выкликнула она и бросилась на Касторгина.
Через минуту они боролись уже в постели. Она визжала и делала вид, что вырывается… Светлана не хотела ему уступать, желая все делать сама.
– Я хочу забеременеть от тебя, а на дальнейшее мне наплевать, можешь и не жениться на мне, – шептала она разгоряченно.
– Я не женюсь на тебе и буду негодяй?
– И все равно ты будешь годяй. Ты всегда будешь для меня годяй, потому что ты редкий, штучный экземпляр.
Улетал Касторгин из Сочи первым. Провожала она его с огромным букетом красных роз. А через неделю сообщила телеграммой: «Еду насовсем, встречай, подробности телефоном десятого вечером, если против – телеграфируй».
«…подробности телефоном… Какие подробности? Какие телефоны? Я, кажется, сдаюсь. Пусть будет, как будет». Он с самого начала смотрел на семейную жизнь с ней как на некий эксперимент. А вдруг и получится, раз она так хочет. Признаться, он уже перестал понимать, какая жена ему нужна и когда?
…И началась их совместная жизнь.
Вначале они сняли комнату. Вскоре Касторгина назначили заместителем начальника цеха и он получил вначале комнату на соседей в трехкомнатной квартире, а через некоторое время сразу двухкомнатную. К этому времени у них была уже Ирина.
Жена после работы собой заполняла все. О писательстве он давно перестал, кажется, даже помышлять. Когда же начал писать кандидатскую, она это восприняла очень одобрительно. Во всем старалась помочь.
А у Кирилла мелькнула мысль: «Вот, занимаюсь наукой, еще другую грань жизни узнаю – научную, другой срез жизни». Он не писал, но был готов знать жизнь со всех сторон, будто верил, что ему это надо будет для чего-то обязательно. Его мозг, его память постоянно все откладывали на потом, на осмысление, на анализ.
…Забавно то, что когда он вернулся из Сочи, в армию его по каким-то неизвестным причинам не призвали, в отличие от его приятеля Владимира, который пополнил ряды ПВО в Небит-Даге, где вскоре и женился на дочке командира полка.
Глава четвертая
Билеты на Высоцкого
Он планировал поехать за билетами с утра, но не получилось. Было уже четверть двенадцатого, когда Кирилл Кириллович подошел к троллейбусной остановке. Дома, собираясь, он вдруг вспомнил, что у него есть удостоверение пенсионера, это в пятьдесят три-то года. Он решил попробовать себя в качестве пассажира с пенсионным удостоверением.
«Чудно как-то, – думал он, – вот я войду в транспорт и буду кому-то показывать серенькую бумажку, в которой, как приговор, звучит: ты пенсионер, все – отработанный материал, дальше некуда – сливай воду. Жизнь – к черту. И как компенсация всему этому – вот вам: езжайте в пределах города, дорогой товарищ – нет, теперь, господин – бесплатно. Заслужили, господа! Господа пенсионеры?»
Он поморщился от внутреннего диалога, от картинности и ходульности происходящего. «Фанера, тьфу… Какой я стал нудный… Интересно, а сколько билет стоит, во сколько нас оценили, ну-ка, господа хорошие, сейчас узнаем».
Подошел маршрутный троллейбус номер 11, и он поднялся по ступенькам.
Вошедших было двое: он и бабулька, проворно подкатившая к кондуктору.
– На-ка, милая, у меня руки заняты, на билетик-то.
По всему видно было, что бабка с села Рождествено едет торговать на Крытый рынок. Она держала деньги в левой руке вместе с трехлитровым бидончиком, в котором были либо сметана, либо творог. В другой руке у нее была корзинка с яичками. Кондуктор подошла и взяла деньги. Последующее действо развивалось, по оценке Касторгина, невнятно и суматошно.
– Гражданин, а вы платить собираетесь? – глаза приземистой крепышки смотрели дружелюбно и в то же время насмешливо. – Бабуля и та платит, а вы?
Надо бы взять и заплатить, но он подошел к кондуктору и каким-то очень подозрительно проникновенным голосом произнес:
– Знаете, у меня удостоверение пенсионера.
Крепышка удивленно округлила глаза:
– У вас удостоверение? – она с сомнением покачала головой. Он понял это так: «Ладно, мол, заливать, хотите ехать зайцем, черт с вами, связываться с каждым тут…» Касторгина передернуло.
– Что, не верите?
– Да ну вас… – она не смогла подобрать слова, – как хотите.
– Как, как хотите? – выдохнул Кирилл Кириллович, – я ведь и сам не верю – вот, – он наконец-то нашарил удостоверение, вынул его и торжественно развернул, чувствуя, однако, смущение и какое-то непонятное чувство вины, будто он намеревался что-то все-таки украсть.
«Черт, меня заклинило, надо было взять билет, отец ведь всегда брал, а был инвалид войны, и никогда на сиденье не садился, стоя ездил, хотя и с протезом… одна морока. Зато прошел полную апробацию», – думал он, подходя к зданию филармонии.
У кассы филармонии была небольшая очередь. Когда он ткнулся в окошечко, кассир объявила громко, что остались всего два билета.
– Мне хватит одного, – резонно сказал Касторгин.
– Ой, как же так, – пискнул над его ухом голосок.
Он обернулся. На него смотрели черные детские глазки взрослой девицы, а рядом стоял стройный элегантно одетый ее спутник.
– Ради бога, уступите нам, ну что вам стоит, мы ведь вдвоем, а вы всего один. Вы купите: и ни то, ни се – один билет останется. Никому!
– Как никому? За вами же стоят, – чувствуя несуразность диалога возразил Касторгин.
– Ну все-таки, все-таки здесь какая-то несправедливость, верно ведь? Нас двое, а вы – один, – лепетала девица и глаза ее то закрывались, то открывались. Ее спутник понуро молчал.
Касторгин уступил билеты. Он, действительно, увы, был один. Почти равнодушно отошел от кассы.
…Был субботний день, 25 января. Малоснежная зима. Легкий морозец и свежий ветер гуляли под открытым небом. Он решил пройтись по улице Фрунзе до драматического театра и взять билеты на любой вечерний спектакль. «А заодно поприветствую Алексея Толстого», – подумал он, вспомнив, что на его пути будет справа дом-музей писателя.
Последний раз он был в нем в год окончания института. Толстого он любил. Книгу Оклянского «Шумное захолустье» перечитал несколько раз. У него была давняя привычка перечитывать полюбившиеся книги. Оттого-то первые строки любимых произведений разных авторов он знал на память. А некоторые: «Детство Никиты», «Разгром», «Хаджи Мурат», «Поединок» и многие другие мог цитировать по памяти кусками.
Подойдя к дому-музею Толстого, Кирилл Кириллович внутренне порадовался тому, что внешне особнячок, обшитый досками, выкрашенными в желто-коричневый цвет, выглядел сносно.
«Конечно, наверно, масса проблем с содержанием и безденежье душит, но все-таки стоит…»
Он потрогал руками добротные доски, хмыкнул невразумительно, отошел метров на пять и, задрав голову, окинул взглядом весь дом сразу: «Сколько уже лет нет знаменитого писателя, а он стоит – свидетель былой жизни, хранитель всего виденного, что было в нем… Как банально последние дни я говорю и думаю, – заметил он отстраненно, и тут же спокойно и трезво пришла новая, не пугающая, а уравновешивающая мысль: – Так, наверное, и должно быть, раз я барахтаюсь на краю пропасти. «Живой труп» – Боже, никогда не думал, что это и обо мне».
Кто-то изнутри дома-музея приоткрыл форточку, и скрип ее вернул его к действительности.
«Странно: ходят люди, звенит трамвай, я этого ничего не слышал только что, как будто находился в другом измерении. А скрип форточки, словно оттуда, издалека, где Толстой и его старшие родственники, говорит со мной?»
Последние месяцы Касторгин писал короткие стихотворения, чаще четверостишья. Это отвлекало от мрачных мыслей, давало некое ощущение деятельной жизни.
Он попытался припомнить свое четверостишье о Толстом. На память многие из своих стихов он не помнил. И это, очевидно, от того, думал он, что четверостишья требовали четкой формы, лаконичности, даже лапидарности, эта форма приходила и ложилась на бумагу не сразу, было много вариантов и все они потом, когда уже был главный, окончательный, все равно толкались в сознании.
С минуту пошевелив губами, он вполголоса все ж-таки произнес:
К кому мне пойти с досадой моей,Кому рассказать об этом?Так жалко, что Толстой АлексейНе стал гениальным поэтом.…Касторгин продолжил свой путь по улице Фрунзе. Проходя мимо Академии искусств и культуры, невольно обратил внимание на разминавшихся балерин в зале. Там царили красота, молодость, жизнь.
Завораживающие силуэты вдоль стенок, чуть слышимая музыка, казалось, должны были вызвать у Кирилла Кирилловича прилив бодрости. Он и сам этого ожидал, но какая-то сила мешала… Наоборот, что-то будто говорило: это уже не твое, ты уже лишился права на музыку, красоту. «Как и кто лишил? – вдруг кольнула мысль. – Ведь это я решил, что уйду из жизни, но сама действительность, все люди, эти девочки, грациозные и недосягаемые, они ни при чем, это я все сам… сам. Боже мой, надо не раскисать. Надо еще все до конца понять… и разобраться… А ведь мне и раньше, когда я смотрел на что-то красивое, особенно на женщин, отчего-то становилось грустно… Возможно, таких людей, как я, много. И они ходят по улицам. Те, кто ожесточился до крайности, но еще пока не поднял руку на себя, но уже решил это сделать, они же могут быть социально опасными. Им уже все равно. А тебе? Нет, мне – нет, – терпеливо думал Касторгин. – У меня нет таких сил, чтобы желать или делать сознательно зло. Я, наверное, слаб. Или здесь что-то другое… другое, другое, – пытался догадаться Кирилл, – но что? Жить все-таки хочу, вот она разгадка. Но жить могу только порядочным человеком, уважая себя. Я балансирую на грани и не знаю, что из этого всего будет».
– Я что-нибудь не так делаю? – вдруг, как сквозь завесу, услышал Касторгин молодой бархатный голос.
– Так, очень даже так, – отвечал женский голос.
Кирилл Кириллович поднял голову и прямо перед собой у подъезда университета увидел целующуюся парочку. Поразило его то, что они не смотрелись вульгарно. Они были красивы. Особенно она – чуть полноватая, с прямо-таки величаво посаженной головой. Он был худощав и невозмутим. «Бог мой, что они делают?»
А парочка продолжала целоваться. Они ничего не видели, особенно она. Они были одни. Вернее, они чувствовали себя центром всей вселенной. До остальных им не было никакого дела, не было никого вокруг. Тем более Кирилла Кирилловича с его проблемами. Он это понял или, вернее, оценил и неопределенно улыбнулся. И, если бы сторонний наблюдатель видел его улыбку, он не догадался бы, что она значит.
…Он отпустил ее губы, она, хлебнув воздуха, чуть оттолкнула его и, засмеявшись, совсем как подросток, что-то ему шепнула на ухо. Прямо глядя в ее бездонные, омутовые глаза, парень кивнул головой и она звонко чмокнула его в щеку. Парочка продолжала разговаривать на своем языке, а Кирилл Кириллович пошел дальше по улице Фрунзе.
Застрявший в мыслях между только что виденным и тем, что сидело в нем и подспудно, но настойчиво требовало по его привычке упорядочения, он удивленно уставился на памятник Чапаеву перед зданием драматического театра.
Чапаев восседал на коне с протянутой рукой, но без сабли. «Как, – удивился Касторгин, – и здесь корректировочку перестройщики сделали. Отняли сабельку у Чапая, хватит, помахал и довольно. Стыдно стало за кровожадность собственных героев Отечества. Сколько голов-то посшибали друг другу. Варварство, конечно».
Он был сторонник той мысли, что и революция, и гражданская война были срежиссированы международным империализмом, как некий опыт для человечества, и мысль, что огромный его народ стал по чьей-то воле зловещей и деятельной игрушкой в мировой игре, его периодически угнетала.
Рассуждая подобным образом, он прошел чуть вперед и… вдруг вытянутая рука Чапая обрела саблю. Все было на месте.
– Черт те что, – ругнулся Кирилл Кириллович и попятился назад, туда, где только что стоял.
Как только он оказался в одной линии с рукой Чапая, сабля исчезла.
«Вот фокус, надо же. Выходит, никто не трогал Чапая. А мы тут исторические ретроспекции проводим. Поторопились чуток. Махальщиков сабельками ого-го сколько еще у нас. Не скоро еще до поумнения». Ему вспомнилась одна из телепередач…
Это были дни накануне восьмидесятипятилетия или девяностолетия со дня рождения знаменитого комдива. Местное телевидение организовало в память о Чапаеве встречу с ветеранами-чапаевцами. Человек пять или шесть усадили за круглый стол и ведущая по очереди стала каждому задавать вопросы.
Кирилл Кириллович заинтересованно посматривал на экран. Ему было интересно наблюдать людей, которые будут вспоминать о событиях далеких дней. За столом сидели, так сказать, живые участники драматических лет гражданской войны.
Но передача явно не получалась. Не клеился разговор за столом. Те, кто имели образование и выдвинулись из общего ряда, говорили гладко и осторожными фразами общеизвестное, а те, кто так и остался простым тружеником, были скупы на слова, не совсем понимая, что как раз-то от них и ждут живого разговора.
Кирилл Кириллович сразу обратил внимание на рослого, угловатого старика. Крупные и темные его кулаки внушительно лежали на столе.
Два раза диктор обращалась к нему с общими вопросами, но он отвечал односложно, спокойно уступая другим. Ему был неинтересен разговор обо всем и ни о чем.
Касторгин все ждал, что кто-нибудь обмолвится о Чапанной войне, или Чапанке, как называли ее в Поволжье. Эта война, как понимал он, всколыхнувшая огромные массы крестьян Самарской и Симбирской губерний, была намного масштабнее и трагичнее, чем Кронштадский мятеж в 1921 году и «антоновщина», о которых хоть что-то было известно. Видно, сведения об этих событиях двадцатых годов были настолько под запретом, что впервые попытавшегося рассказать о них писателя Артема Веселого в своей повести «Чапаны» расстреляли, а повесть конфисковали. (Это он уже позже узнал.)
«Эти люди на экране, они должны были знать об этой трагедии. Неужели ничего не скажут?.. Не скажут, – чуть позже ответил он сам себе, – ведь они воевали друг против друга. Их заставили воевать. Жизнь вновь выдвинет человека, который скажет об этих событиях во весь голос. И мы все до конца узнаем, как это было. Но когда?»
Вдруг диктор, может, сама того не ожидая, задала вопрос, который враз оживил передачу:
– А страшно было, когда кавалерия, эскадрон на эскадрон с шашками наголо?..
– Тут ведь цельная наука – воевать в кавалерии, – не спеша отвечал обстоятельный старик. – Во-первых, конь должен быть строевой, обученный для этого дела, во-вторых, снаряжение, того… – и старик со знанием дела, свободно, не обращая внимания на сидевших рядом, словно зная, что они либо бывшие обозники в чапаевской дивизии, либо вообще липовые «участники», стал подробно обо всем рассказывать, что касается снаряжения коня.
– Страшно вначале было? – допытывалась диктор. – Ведь лавина на лавину?
– Дак, ежели науку освоить, оно становится не в диковинку. Все по своим правилам.
– «Есть упоение в бою…» – явно желая разогреть разговор, продекламировала ведущая.
«О чем лепечет эта бабенка, – ужаснулся Кирилл Кириллович, – о чем говорит этот старик, какие правила, разве может нормальный человек методично истреблять по каким-то там правилам себе подобных? Отечественная война, война с захватчиками – это понятно. Но убивать своих же земляков, таких же, как ты, простых хлеборобов, как в чапанной войне? От невежества это. Если «антоновщина» охватила около пятидесяти тысяч повстанцев, то сколько в Чапанке? И их наверняка либо уничтожали, либо высылали. От невежества, – повторил он, но через секунду возник другой вопрос. – А как же объяснить «успехи» маршала Тухачевского, высокообразованного интеллигента, который разработал и внедрял правила применения отравляющих газов при подавлении крестьянских восстаний в России? Это просочилось в печать. Тоже по особым правилам? Что ж это за россияне такие: им и невежество тяжело в себе нести, и образованность получается не впрок».