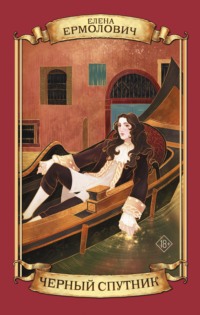Полная версия
Золото и сталь

Елена Ермолович
Золото и сталь
© Е. Ермолович, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *Летними ночами на волжской набережной города Ярославля можно видеть чёрную карету, в которой сидит человек в старинной шляпе и спрашивает у одиноких прохожих – как проехать к дому Иоганна Бирона?
Сайт «Городские легенды Ярославля»1758. Савонарола и уховёртки
Дождевая туча задела лохматым подбрюшьем острый крест лютеранской кирхи, насупилась, брызнула синими каплями. И полынь вдоль дороги, намокнув, запахла терпкой отчаянной горечью.
Возле домика пастора Фрица остановился «полуберлин», некогда превосходный, но теперь повидавший виды. Кучер, путаясь в полах длинной, не по росту шитой одежды, филином слетел с облучка и распахнул скрипучую поцарапанную дверцу.
– Золдат, зонт! – послышался в недрах кареты брюзгливый голос.
Тотчас из раскрытого проема показался и расцвёл зонт, изумрудный, разрисованный плывущими змеями и раскосыми японками. Кучер утвердил напоследок подножку и почтительно отступил.
Из кареты выбрался сердитый стремительный дед, и нарядом, и профилем схожий с кладбищенской птицей, и зашагал к дому – гвардеец, тот самый «золдат», нёс над ним зонт в вытянутой руке. Сам «золдат» под зонт не стремился, предпочёл мокнуть, как настоящий мужчина.
Дед был ярославская знаменитость, ссыльный герцог, господин Биринг (бывший Бирон). Ярославцы, не ведая сложного слова «герцог», именовали сего господина попросту князем, и тем всё ж ему льстили: не был он ни герцог более, ни князь, никто – всё потерял.
Цербер Сумасвод приставлен был к ссыльному высочайшим повелением – «дабы бывший Бирон ничего над собою не сделал». Государыня беспокоилась в безмерной доброте своей, что ссыльный герцог лелеет в душе самоубивство. Сам же Сумасвод цинично полагал: подопечный его попросту намерен «нарезать винта», вот и даётся ему охрана. Угадал ли гвардеец тайный высочайший промысел – бог весть…
В прихожей пасторского дома цербер Сумасвод с треском схлопнул зонтик и привычно уселся в углу на лавку, прикрыв глаза – как будто отключился отлаженный механизм. Князь ли, герцог? – вложил под мышку французскую шляпу и, грохоча ботфортами, прошёл в комнаты.
В гостиной дочка пастора Аничка, семи неполных лет, кружилась на месте, в синем колоколе домашнего платья, и повторяла, зажмурясь, просящей немецкой скороговоркой:
– Чёрт-чёрт, поиграй да и отдай! Чёрт-чёрт, поиграй да и отдай! Тойфель-тойфель…
Ножка стула обвязана была платком, и льняные углы торчали вверх – как чёртовы рога, как заячьи уши.
Аничка Фриц была мулатка, кофейно-шоколадная, черноглазая. Матушка её, пасторша Софья, бывшая герцогинина камеристка, и вовсе была настоящая, чернейшей, густейшей масти природная арапка. Аничке достались от мамы иссиня-смоляные кудри, чуть разведённая белилами масть, смешные розовые ладошки – и способность притягивать взгляды, всегда и везде. Ведь чудо чудное, диковина.
– Тойфель-тойфель… – шоколадно-кофейный, в пёстрых лентах, волчок крутанулся на остром мысочке и замер – сквозь ресницы и завесу кудряшек девочка разглядела гостя. Аничка отбросила от лица волосы и встала, голову запрокинув, словно соизмеряя свою невеликую высоту – и стоящее перед нею и над нею тёмно-бархатное, бесконечно высокое высочество – увы, давно бывшее.
– Анхен, а прилично ли дочери пастора вслух поминать нечистого? – спросил девочку князь, без улыбки, двумя руками опираясь на трость. Аничка очень ждала, что вот так он непременно выронит из-под мышки шляпу – но нет. Удержал.
– Добрый день, ваша светлость. – Девочка сделала книксен и кокетливо спрятала лапки под передник. – Я потеряла гребешок. А тойфель – он умеет находить такие вещи, которые вот только что тут лежали – и нет…
– Милая Анхен, помогает найти утраченное и потерянное святой Антоний Падуанский, но отнюдь не тойфель-тойфель, – наставительно и сурово проговорил гость и, близоруко прищурясь, оглядел гостиную. – Белая костяная расчёска, верно, Анхен?
– О да!
Тёмно-бархатная светлость в три гулких шага оказался у печки и с чугунной приоткрытой вьюшки снял пропажу.
– Вот видишь, Анхен, вовсе и не чёрт…
– И ваш Антоний – он тоже нет! Папи читал мне о нем. Святой Антоний не ищет совсем ничего, он – покровитель влюблённых, животных и всех отчаявшихся… – Девочка насладилась потрясённой физиономией гостя – после собственной блестящей богословской тирады – и торжествующе цапнула добычу из протянутой руки. – Спасибо! Я изнизу не увидала его. А вам хорошо, вы длинный…
– Анхен! – Сам пастор Фриц явился, привлёченный голосами, из дальних комнат.
– Ой, папи! Пардон муа, ваша светлость! – Аничка ещё раз присела, с напускным смирением, но в сливовом взгляде её плясало искрами торжество.
– Ступай, Анхен, – вкрадчиво велел пастор, и девочка шмыгнула на улицу, за спиною у длинного высочества.
– Объясни уже ей, что я не светлость, – сердито и грустно попросил князь, – отец мой.
– Люди привыкли…
– Я здесь шестнадцать лет, а ей – семь, – напомнил князь. – Что ты так смотришь? Думаешь, за каким он припёрся, старый гриб?
Пастор Фриц – лупоглазый, с личиком усталого мопса – миролюбиво пожал плечами:
– Я рад принимать вас всегда, сын мой…
– Помнится, в Пелыме я видел у тебя книгу. Когда вещи тащили из огня… Я ещё подумал: откуда у тебя, и вдруг католическая книга? Принеси мне её.
Пастор сглотнул, почесал зеркальную плешь.
– Ваша светлость ошибается…
– Не светлость. И не ошибается. Книга, тощая, как тетрадь. Речи Савонаролы. – Он уже мерил шагами комнату, и каждый шаг сопровождался ударом трости. – Неси. Отец мой…
Пастор ещё раз пожал плечами, уже сокрушенно, удалился в комнаты и вскоре вернулся с тоненькой книгой в простом переплете. Пока он ходил, гость вышагивал по горнице зловещими кругами, и сердитая его трость с грохотом лупила по половицам.
– Я принёс. – Пастор протянул ему книгу. – Но, ради моего спокойствия, скажите – зачем это вам?
– Есть вещи в душе, которые хочется выжечь, вырезать, как гнойную язву. Отец мой… – Князь свернул книгу в трубку и спрятал в карман. – Я не умею, не знаю как. А этот католик – знает. Как убрать от себя, сжечь внутри лишнее, то, что не даёт жить…
– Я загляну к вам вечером, сын мой, – пообещал пастор почти зловеще.
– А я могу отказаться? – хохотнул саркастично гость, вернул на голову шляпу и, не прощаясь, вышел – пастор услышал в прихожей его командный склочный голос:
– Золдат, зонт!
Пастор смотрел ему вслед, в темноту прихожей – с жалостью и тревогой. Бедный узник, в темнице гордыни и памяти…Душа, терзаемая драконом…
Огнедышащим драконом – пастор Фриц помнил, и превосходно, тот пелымский пожар, шестнадцать лет назад, из которого и тащили они когда-то и свои пожитки, и ту несчастную книгу.
Чёрные перья, пепла и сажи, и сноп огненных искр – столп, попирающий бездонное, последнее, мутно-белое сибирское небо. И человек в соболиной шубе, надменно скрестивший руки, бархатный, стройный, зловещий силуэт на фоне едва не сделавшегося для них бездонным, последним, погребальным – костра. И вот так же, как только что, в глаза его – чёрными птицами, огненным смерчем – гляделся, посмеиваясь, дьявол…
Он ведь поджёг тогда и тюрьму свою, и их всех, деливших с ним изгнание, и себя – что-то ему наскучило? Тогда…Что-то хотел он – выжечь?
Дождь почти что закончился, когда дряхлый «полуберлин» вкатился во двор белоснежного купеческого дома. Домик купца Мякушкина выделен был ссыльному семейству от щедрот городского головы и за полтора десятка лет успешно оброс поистине вавилонскими строениями, флигельками и пристройками. Особенно выделялись позади дома царственная конюшня, и могучий птичник, и великолепная псарня. И, возле самого крыльца – манеж, наподобие римских, но весьма и весьма в миниатюре.
Над этим манежем и натянут был полотняный трепещущий полог, и под пологом помещалось почтеннейшее ссыльное семейство – герцогиня-мать и два принца-наследника. Все трое с надменным видом заседали на стульях, а чуть поодаль переминались два караульных, два лакея и два повара – каждой твари, как говорится…
– Зонт можешь сложить, – разрешил князь своему Сумасводу, не слыша биения по куполу звонких капель. Сумасвод убрал зонт под мышку и следовал за ссыльным в привычном полушаге – так, чтобы можно было сразу же схватить его, если что, протянутой рукой. Князь прошагал по аллейке розовых кустов и потрясённо уставился на семейство под пологом:
– Вас что – ограбили? Выгнали вон?
– В комнатах уховёртки, папи. – Младший наследник, принц Карл, трагически завёл подведённые глаза.
– И вы – боитесь? – не понял князь.
– В доме аптекарь, он их убивает, – скупо и словно нехотя пояснила герцогиня. На коленях её лежали вышивание и молитвенник – скромный походный набор, неизменная отрада сердца. Где бы ни была она, герцогиня Бинна – в покоях Летнего или в Петергофе, в тёмной караулке Шлиссельбурга, в пахнущей дёгтем арестантской лодке, по Каме-реке везущей ссыльных в Пелым, в чёрной арестантской карете, в пелымском срубе, – вышивание и молитвенник всегда лежали у нее на коленях.
В оконных проёмах видны были аптекарь с подручным, из картонных распылителей тщательно кропящие мебель и занавеси. Князь сразу же узнал эти их пшикалки – в прошлой жизни то были флаконы для равномерного обсыпания париков пудрой.
– Папи, я хотел говорить с вами, – старший принц, Петер, повернулся и даже приподнялся на стуле. Он был похож на мать, как только может быть похож юноша – такое же маленькое нежное лицо с мелкими и хищненькими чертами.
– Так говори, – пожал плечами князь и направился к конюшне по дорожке, выложенной бархатными мшистыми плитами. Сумасвод двигался за ним, в вечном полушаге, как сурок за савояром.
Петер бабочкой спорхнул со стула – не зря когда-то давно танцмейстер прутиком гонял его по танцзалу. Он в три прыжка догнал отца, подбежал с того плеча, где не было Сумасвода, и горячо зашептал по-французски (Сумасвод не знал по-французски):
– Папи, папи, я не могу так больше! Сделайте для меня то, что вы делали для Лизхен, сыграйте и со мною в её игру! Возненавидьте меня, хоть на три недели! Пусть воевода и мне даст бежать…
– По-русски говорить или по-немецки, – вклинился в его щебечущую тираду металлический голос Сумасвода.
Князь остановился перед дверью конюшни и выговорил по-французски, с совершенно германским произношением, не обращая на Сумасвода ни малейшего внимания:
– Который раз ты просишь? Шестнадцатый? Нет.
– Почему – нон? – взмолился Петер, он-то Сумасвода послушался и перешёл на немецкий.
– Потому что Лизхен была девица, и преуродливая, куда бы я её здесь пристроил? Вот и сбыл с рук. А ты – сиди. Сбежишь – все потеряешь. Ты мужчина, красавец, наследник, и притом первой очереди. Ты женишься легко, когда будет партия. Герцог Лозен женился в восемьдесят. Утешай себя одним: я так люблю тебя, что не в силах возненавидеть даже понарошку.
– О, папи, как вы жестоки! – Прекрасный принц закрыл лицо руками, хотел заплакать, но не заплакал. Ведь глаза у него, как и у младшего брата, подведены были тонкими стрелочками.
– Ступай к матери, – по-немецки проговорил князь и положил руку на ручку двери.
Петер показательно вздохнул и побрёл по дорожке прочь – и так изящно ставил ноги, что отец его невольно подумал: не зря он всё-таки нанимал для сынишки танцмейстера. Щёгольские принцевы ботфорты сзади были забрызганы грязью, почти до самых колен.
Сумасвод, с зонтом под мышкой, вытянув шею, что-то высматривал за забором. Князь проследил за его взглядом, прежде чем шагнуть в конюшню. За забором, за шипастым калиновым кустом, прогуливалась зловещая фигура с лицом, повязанным тряпками, и в русской шапке с оригинально торчащими вверх ушами. Неудивительно, что Сумасвод залюбовался – летом, и внезапно такая шапка…
– Идём, золдат, – напомнил о себе князь и, не глядя более на гвардейца, вошёл в полутёмное, ароматнейшее чрево конюшни.
После дождя на землю сошла долгожданная прохлада, к вечеру воздух задышал и травами, и цветами, а на волжском берегу запахло ещё и тревожно-пьянящей, сладко-тоскливой речной водой.
Деревянная лестница, долгая-долгая и белая-белая, призрачно-белая в сумерках, спускалась с высокого берега к самой воде. По утрам на самой нижней ступеньке бабы полоскали своё бельё, а сейчас на нижней ступеньке сидел князь с удочкой – и ловил рыбу. Рядом стояло ведёрко, и горел тёплый уютный фонарик на круглой литой подставке, а на две ступеньки выше дежурил неизменный Сумасвод.
Пастор Фриц с высоты вгляделся в тёмные силуэты, в нежный, с ореолом, огонек фонаря. И, цепляясь одной рукой за перила, другой – придерживая длинный подол, принялся осторожно спускаться. Чуткий Сумасвод тотчас повернул к нему голову – мелькнули белки глаз и блик на крупном носу. А князь не шелохнулся – но спина его и плечи неуловимо передёрнулись, и пастор понял, что «сын его» узнал его шаги и не глядя.
– Добрый вечер, сын мой. – Пастор добрался до нижних ступеней и присел, чуть пониже Сумасвода, чуть повыше ссыльного своего прихожанина.
– Пока он добрый, отец мой, – не поворачивая головы, отвечал ему рыболов, – бог весть, как пойдет дальше.
– Вы взяли ту книгу, сын мой…
– Ещё не читал, – буркнул князь, – некогда. Тебя смущает, что она католическая? Бинна моя – католичка – уж как-нибудь и книгу я переживу.
– Другое, – смиренно отозвался пастор, – меня смутили ваши слова, сын мой. То, что терзает вас, не находя выхода, то, что желаете вы в себе убить, посредством этой – не самой уместной в подобном деле – книги.
– И? – оживлённо спросил князь, впрочем, так и не повернувшись. – Займёшься этим? Заменишь собою книгу?
Сумасвод сейчас же с кряхтением поднялся на три ступеньки выше – предположил, что подопечному его вот прямо здесь предстоит исповедь.
– Тот человек, в чьей смерти вы себя вините, – начал вкрадчиво пастор, змеино склоняясь к затылку своего прихожанина, почти уткнувшись носом в его лунно-белую, бантом украшенную косу, – он сам желал погубить вас. Вы дурно поступили, когда отдали его на смерть, но казнить себя бесконечно за то…
– Того я не отдал на смерть, я его попросту убил, – прервал сердито собеседник, – как пристреливают охотники паршивых собак. Ты дурак, Фриц. То отыгранная игра. Эта рана никогда и не болела. Есть другая рана, и болит так, что не выжечь никакой твоей Савонаролой. Бедный мой, пропащий обер-прокурор… Двадцать лет уж прошло, двадцать три года. У меня нет друзей, и не было, Фриц, никогда – только он один…
– Он умер из-за вас? – осторожно, тишайше спросил пастор, догадываясь, что сейчас он, как тот апостол, вкладывает персты в раскрытую рану.
– Я выпустил его из рук, загляделся, заигрался – первые планы, первые большие газарты. Он об одном просил меня – «не покидать и защищать», ведь я взлетел, а он остался на земле. Не покидать и защищать… Я сам хотел бы простить себя, но как простишь? Хорошо католикам – исповедался и пошёл, свободный, до следующего раза…
– Это не совсем верно, сын мой.
– Сын мой… – Словно очнулся князь, вытянул из воды леску, сложил хитроумное голландское удилище. – Знаешь ли, пастор, что по-французски «грешить» и «рыбачить» звучат одинаково? Одно и то же слово – «peche». Золдат, бери ведро! Идём домой.
С топотом сбежал сверху Сумасвод, подхватил ведёрко и фонарь и заспешил по лестнице – снова вверх.
– Прощайте, отец мой. – Князь поднялся, бархатные полы почти мазнули сидящего пастора по носу. – И не трудитесь меня исповедовать. Я обойдусь книгой. Не тратьте себя на меня – я недостойный предмет, отец мой.
И князь, легко для своих лет, взбежал по ступеням, туда, где нежным теплом манил ореол фонаря. Пастор остался сидеть – от реки пахнуло на него водой, и травами, и рыбой, и тоска заныла, как старый шрам…
Сумасвод стоял на верхней ступени, ждал. Над ним склоняла ветви яблоня, раскидистая и почтенная. Князь с удочкой своей поднялся уже наверх, когда между ним и гвардейцем со стуком упало яблоко. Сумасвод тут же склонился, цапнул яблоко и с хрустом откусил.
– Дай мне. – Князь протянул к нему руку, и с такой решимостью, что злюка Сумасвод растерялся.
– Я же уже кусил… – возмутился он, но яблоко отдал. – Оно всё поклёвано было…
И тут же птица крикнула в ветвях – признаваясь в содеянном. И зловещая тень мелькнула в сумерках, за самым деревом – совсем разбойничья тень, в русской шапке, с нелепо поднятыми вверх ушами: отчётливый абрис на фоне меркнущего неба.
Князь не стал доедать яблоко – он кончиками пальцев провел по влажной от сока кожице, нащупал несколько царапин, то ли от птичьего клюва, то ли от ножа. И с похвальной для древнего деда ловкостью бросил огрызок вниз – в тёмную далёкую воду. Булькнуло. И Сумасвод воззрился на подопечного – с укоризной.
Для кого она, эта исповедь, сбивчивая, перепутанная, словно нити в корзине для рукоделия? Рассказ о тех, кого давно нет, вернее, о том одном – наивном простаке, эгоисте, нелепом, незадачливом, невезучем – о нём, о гусенице, переродившейся, сломавшей кокон, и у которой сейчас уже – выросли мрачные тяжёлые крылья.
Память перебирает колоду, по одной вслепую вытягивая карты.
Антоний Падуанский, покровитель животных, влюблённых и всех отчаявшихся – наверное, этот рассказ, он для тебя, – смилуйся, выслушай, погляди с небес, помоги отыскать потерю.
1724. Письмо
Москва встречала въезжающих кропящим невесомым дождичком и высоченными триумфальными арками. Арки состояли из резных деревянных цветов, ветвей и надписей – «мая» и «1724», впрочем, намалёванных столь халтурно, что почти и не разобрать.
Для приветствия курляндской кареты не отыскалось в старой столице и завалящей пальмовой ветви. Москва не снизошла, не обратила на герцогиню ни малейшего внимания – мало ли кто въезжает, бывало и получше, бывало и побогаче. Да и карета, в которой помещались герцогиня и её дамы, выглядела невидно и невзрачно, разве что лошади стоили похвалы.
Но четыре нарядных всадника, сопровождавшие карету, были хороши, и знали они, что хороши. Весёлые хищники…
Отважные московские девки глядели, прищурясь, из-под платков снизу вверх – на четырёх курляндских красавчиков-вермфлаше. Вдова-герцогиня была небогата, но славилась свободой нравов и пригожестью своих камер-юнкеров. Кто-то из злюк большого двора – кажется, барон Остерман – язвительно окрестил спутников её светлости этим ёмким немецким словечком, «вермфлаше», постельными грелками. Может, и приврал – а дамы с удовольствием подхватили, молодой герцогине многие завидовали – денег кот наплакал, красоты тоже, а каков гарем…
Четыре красавца-всадника, юнкеры Корф, Кайзерлинг, Козодавлев и чуть отставший от них Бюрен – этот загляделся на подмигнувшую ему мещаночку, – не были, конечно, все вчетвером одновременно сосудами греха. Козодавлев только женился и витал в счастливых супружеских мечтах. Кайзерлинг давным-давно добровольно отставил себя из амантов, его манили политика и интрига, а при герцогине подобного было до морковкиных заговинок не дождаться. Корф единственный являлся вермфлаше действующим, и Бюрен изредка его подменял, когда у хрупкого красавца Корфа набухал очередной флюс. Но Бюрен значился скорее в должности приказчика, шталмейстера и главного по закупкам – для него и нечастые выходы в роли аманта казались досадной докукой. Бюрен, подобно Козодавлеву, был счастливый молодой муж, едва ступивший на брачную стезю, – его супруга готовилась разрешиться первенцем. Именно Бюрену герцогиня и обязана была достойным, при всей нищете своей, выездом – лошадей для её упряжки молодой и усердный шталмейстер отыскивал в своё время, вдохновенно торгуясь, на силезских и прусских конных заводах.
Четверых нарядных юнкеров Москва и чаровала, и пугала – азиатские змеи криво изогнутых улиц, и столпотворение поистине вавилонское, и мелькающие тут и там в толпе совсем разбойничьи рожи… Кружевные резные арки, украшенные флагами качели и карусели, на которых летели девки во вздуваемых ветром платьях, – то была мишура, сладкая патока, под которой очевидно прятался яд. Набожный Бюрен даже припомнил «гроб повапленный», нечто красивое внешне, но внутри – безнадёжно гнилое. Такова была и Москва, увитая цветами и лентами, пахнущая приторно, пирогами и мёдом, но и немножечко сладковатой смертью.
Бойкий Кайзерлинг, когда-то бывавший здесь прежде, не без труда отыскал в переулках назначенные герцогине палаты – убогие, как и следовало ожидать. Бюрен тут же вцепился в русского квартирмейстера: не было ли для него, Бюрена, писем на этот адрес – он ждал письма от жены, родила ли, нет? Квартирмейстер только завел измученные глаза – конечно же, нет. Ничего не было. Прислуга неспешно разбирала подводы, вознося на этажи всевозможный дорожный хлам. Дамы, свалявшиеся в карете, как кошки под диваном, в сплюснутых юбках и смятых прическах, помогали выбраться из кареты своей хозяйке – у герцогини в пути онемели ноги.
Бюрен и Кайзерлинг поднялись в отведенную для них комнатку, с круглым, словно на корабле, окном и единственной койкой.
– Бросим жребий – кому спать на полу? – предложил Бюрен.
Сосед его рассмеялся:
– Нет, Эрик, эти владения остаются все в твоем распоряжении. Я приткнусь у ребят Остермана, мы с ними уже условились. Сам понимаешь, там совсем другая игра. Здесь фоски, а там – козыри.
– А ты, Герман, вырос из нас, как из старой одежды, – продолжил за него Бюрен, впрочем, вполне добродушно. Он был простоват и знал это за собою – многие спотыкались о несоответствие его жгучей, ложно-значительной хищной красоты и немудрящего настоящего содержания.
Бюрен подошёл к смешному круглому окошку и сверху смотрел, как дамы под руки заводят его герцогиню в дом. Беднягу хозяйку шатало, словно матроса на штормовой палубе.
– Как это поётся в ваших арестантских песенках, а, Эрик? – Кайзерлинг приблизился к нему сзади, и положил подбородок на его плечо. – Это же популярный сюжет у арестантов – мезальянс. Госпожа и слуга, жена тюремщика и сиделец? И ты теперь полноправный герой ваших каторжных песенок, счастливый паж благородной дамы…
– Ты язва, Герман, – беззлобно отозвался Бюрен, – за то и люблю. – И он нежно погладил товарища по длинным волосам и поцеловал в висок. Тот фыркнул и отстранился.
Бюрен когда-то отсидел в тюрьме семь месяцев, и ядовитый Кайзерлинг не уставал напоминать приятелю о том коротком тюремном сроке, раз за разом обливал бывшего арестанта жгучим сарказмом – но стоило ли злить того, кто не злится? Бюрен был слишком уж тюха, чтобы ссориться с приятелем из-за такой безделицы, а отвечать в том же стиле ему недоставало ума.
Верховая прогулка членов царствующей фамилии началась торжественно, продолжилась великолепно и завершилась нечаянной радостью. Царицын юнкер, и самый притом противный, свалился с коня.
– Погляди, как Остерман к нему кинулся, – ревниво прошипел Кайзерлинг, – и явно неравнодушен – и отряхивает его, и ощупывает…
Как желал бы он сам быть на месте вот этого отряхиваемого! Секретарь Остерман был его кумир, одной с Кайзерлингом породы хищник, но куда удачливей, и так высоко уже взлетевший – что не дотянуться.
Бюрен смотрел из-за спин Козодавлева и Корфа, как заботливо обхлопывает гордый барон-секретарь павшего юнкера от пыли. Тот покорно давал себя поворачивать и лишь трагически поднимал подрисованные брови – как девчонка.
– Этот юнкер – любимый Остермановский шпион, вот барон и хлопочет, – пояснил Кайзерлинг, – я слышал, милый мальчик обо всём доносит своему хозяину, обо всём, что делается у её величества в покоях.
– Хозяину – кому? – не понял Бюрен.
– Так Остерману. Он его креатура. Ты же час, наверное, проговорил вчера в приёмной с этой цацей, пока мы ждали хозяйку…
Бюрен пожал плечами.
– И ты даже не понял, с кем говорил? – рассмеялся Кайзерлинг.
– Отчего же, цаца представилась – Рейнгольд Лёвенвольде.
– Тот самый, что подсидел тебя, когда ты пытался пристроиться к малому двору – тебе отказали, а вот этого Рейнгольда как раз и приняли, именно на твоё место.
– Это и неудивительно, – миролюбиво отвечал Бюрен, – его отец был chambellan de la petit cour, а я был человек со стороны, чужак, потому и был отставлен. Я знал вчера, с кем говорю, Герман, – и я давно не держу на него зла.
– Он был с тобою любезен?
– Вполне. Разве что – он разговаривает, как будто смеётся над тобою, но это, наверное, такая специальная придворная манера…
– Жди от него поганки. Злой человек, и ослепительно подлый. И он – брат того самого Гасси, что приезжал к нам в Митаву и дёргал из-под нас стулья. Помнишь Гасси?