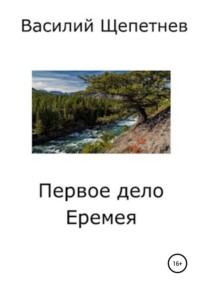Полная версия
Арехин в Арктике
– Казалось бы, факт покупки лекарственных препаратов не должен быть тайной.
Арехин опять промолчал.
– Но ведь раздуют, раструбят буржуазные писаки: голодающая Россия тратит миллионы на пороки своих вождей!
Арехин оставался невозмутим.
– Вам бы в покер играть, Александр Александрович. Ладно, проблема не в лекарствах, а в конкретных лекарствах. Среди заказанного – новейшее средство лечения люэса. Очень дорогое. Закуплено немало, хватит, чтобы вылечить пятьсот товарищей или около того.
Арехин и глазом не моргнул. То есть он, конечно, моргал, но в обычном ритме, не зависящем от услышанного.
– И ещё кокаин. Собственно, основная стоимость партии как раз приходится на кокаин. В отличие от буржуазии, принимающей снадобье из пресыщения, для нас кокаин – способ день за днем работать по шестнадцать, а то и по двадцать часов. Порой совсем без сна. Сам я обхожусь чаем, но на всех чаю не напасёшься. У меня уходит унция в день, и запасы тают. Да и не всякий может распивать чаи на службе. Чаю хотите? – спросил он вдруг.
– Потом, – сказал Арехин. – Когда разберусь с лекарствами. И с деньгами. И с людьми.
– Тоже верно, – согласился Дзержинский. Рука его по-прежнему держала папку, словно он не решился, давать её Арехину, или нет.
Оба молчали.
На улице занимались строевой подготовкой. Шагали нечётко, как новобранцы. Вероятно, в самом деле новобранцы. И пели не бодро, а тоскливо:
«Товарищ Троцкий
С отрядом флотских
Нас поведет
На смертный бой!»
– Слова придётся подправить, – сказал вдруг Дзержинский.
– Слова?
– Подвели нас флотские. Крепко подвели.
– Вы полагаете, что события в Кронштадте связаны с пропажей кокаина? – Арехин чувствовал, что пришло время говорить. Когда ещё представится случай.
Дзержинский застыл. Прошла секунда, вторая. Глаза Феликса Эдмундовича смотрели недвижно, куда-то за спину Арехина.
– Jeszcze jeden? Po prostu umarł? Ani kul, ani noża? I bez świadków?
С каждым мгновением он говорил тише и тише, говорил это не Арехину, а тому, кто стоял за его спиной. Только за спиной у Арехина никого не было.
Слова стали слипаться, переходя в вязкий неразборчивый шёпот. Затем и он стих. Дзержинский то ли уснул с открытыми глазами, то ли забылся. И есть ли разница?
Прошла минута, другая. Арехин не шевелился.
На пятой минуте Дзержинский вздрогнул, потянулся к графину, набрал в ладонь воды и так, ладонью и освежился.
– Устаю, Александр. Всё-таки устаю. Чай – необходимость. И кокаин для товарищей – тоже. О чём то бишь мы? Кронштадт… Мысль интересная, но никаких связей между Кронштадтом и лекарствами мы не выявили. Должен признаться, и не искали.
– Если поискать?
– Вам решать. Если попадутся в Швейцарии или рядом мятежники, поспрашивайте. Хотя вряд ли попадутся.
– А здесь…
– Здесь вы живых мятежников не найдете. Товар скоропортящийся, ничего не осталось, – Дзержинский смотрел на Арехина, оценивая реакцию.
Нечего оценивать. Никакой реакции.
Дзержинский подвинул папку прямо к Арехину.
– Тут всё, что нужно для вашей поездки. Материалы по делу. Паспорт. Полагаю, лучше всего вам выехать под предлогом подготовки к международному турниру. Совершенно естественно, не так ли? Хотя я, как вы, Александр, понимаете, вам не начальник и не указчик. Мне поручено Владимиром Ильичом ввести вас в курс дела и оказывать всевозможную помощь.
Арехин папку взял.
Не начальник и не указчик, как же.
– Поезд на Ригу отправляется завтра в восемь ровно. Проездные документы в папке же.
Арехин наклонил голову. То ли согласен, то ли просто на папку смотрит. Смотрит, но не раскрывает. Не время.
– Связь – почтовая. Односторонняя. Пишите на бернский почтамт до востребования, Ульяму Шмидту и не ждите ответа.
– Бернский?
– Именно. Даже если будете в Германии, в Австрии или ещё где-нибудь.
– Берн, почтамт, Ульяму Шмидту, – повторил Алехин, подтверждая, что запомнил.
– Никакой тайнописи, никаких шифров. Когда определите виновных, укажите имена, точный адрес. И добавьте, что данные господа готовы подписать новый контракт.
Дзержинский поднялся. Поднялся и Арехин.
– Конечно, это отдаёт аматёрством, и крепко отдаёт – отправлять человека в чужую страну налегке, без поддержки. Но нет гербовой, пишешь на простой, привередничать не приходится, – напутствовал он Арехина, провожая до порога.
Вернувшись в кабинет, Дзержинский на мгновение задумался – не перегнул ли он дугу. По всему выходило – нет, не перегнул. Арехин, конечно, экземпляр штучный, но если он настолько хорош, насколько воображает, то поймет: время штучных людей прошло, нынче время людей дюжинных. Числом поболее, ценою подешевле. Главное же – взаимозаменяемых. Сломался один – поставил другого, сломался другой – третьего, а уж если и третий не сдюжил – послать сразу пяток, десяток, сотню. С наказом – искоренить подчистую, до пятого колена. Господь отделит своих от чужих.
Он нажал неприметную кнопочку на нижней стороне столешницы – вещица пустяковая, а как удобно. Порученец вошел и стремительно, и как бы неспешно, чёрт знает, как это у него получается.
– Отчёт по Арехину, – интонации Дзержинского были не сколько повелительными, сколько обыденными. Самое привычное дело: отчёт.
– По вчерашний день я вам представлял утром. А новых материалов ещё не поступило.
– Не поступило? Разболтался Пряшкин, или занят сверх разума?
– Не видели Пряшкина. Утром, когда задания получали, видели, а больше нет.
– Да? Как появится – немедленно ко мне.
Порученец улетучился столь же стремительно, сколь и появился. И опять, кажется, ничего особенного, движется неспешно, даже лениво, а миг – и нет его. Или дело не в порученце, а просто сам он утомился, вот и сливаются секунды? Против Арехина Дзержинский ничего не имел, более того, помнил старое, ценил за настоящее и хотел бы заполучить его к себе полностью на будущее. Но конфигурация уж больно сложная: Арехиным и Троцкий интересуется, и сам Ленин, и другие, те, что в тени. Вот тех, что в тени, и пытается нащупать Дзержинский. По косвенному влиянию. Как открыли планету Нептун. Ведь прячется кто-то во мгле. Большой, сильный, опасный. Потому он послал приглядывать за Арехиным Пряшкина. Пряшкин из опытных, такой рыбной косточкой не подавится. Переживает за прошлое, за службу в «летучем отряде», оттого и старается угодить до смешного, например, вставляет к месту, а чаще невпопад польские слова и выражения. Ну, пусть. За усердие нельзя пенять. Разгонишь усердных, с кем останешься?
Мысли бегали беспорядочно, будто тараканы по стене. Устал, конечно. Ничего, сейчас чайку с сахаром. Чай не роскошь, а кнут для мозга, а на себя кнута жалеть не стоит, – и он нажал на кнопочку дважды.
Арехин тем временем шел по тенистой стороне Проспекта Красных Пролетариев. Фоб и Дейм шли в полусотне шагов позади. Теперь, когда на московские улицы возвращались лихачи, сначала с опаской, а потом и косяком, подновленные лаковые коляски на дутиках стали обыденностью, лишь вороная масть могла насторожить пуганого обывателя; но среди лихачей считалось особым шиком подобрать вороную пару, хотя бы издали схожую со знаменитой упряжкой. Вот и получалась контр-маскировка: весь на виду, а кто таков, поди, пойми. Бывалые люди по прежней памяти вороных сторонились, но подтягивалась смена, те, кому и море по колено, и пуля дура, покуда в лоб не поцелует. Кучер, правда, у Арехина был новый. Может, и к лучшему.
Да, меняются люди, и ещё как меняются. Даже Владимир Ильич обеспокоился, а ведь к нему с отбором ведут, кого попало не допускают. Ленин прежде всего беспокоится об изменениях в партийных отношениях, в партийной иерархии, во фракционных мутациях, но как материалист, он не может не сопоставить эти изменения с другими.
Внешними. Наглядными, но и примелькавшимися настолько, что глаз изменения начинает воспринимать нормой.
Он зашел в светлый павильон, названный не без претензии: «Светопись в красных тонах. Фотомастер Пролетарский». Забавно, но фамилия фотомастера была подлинной, Пролетарским записали подкидыша в церковную книгу старинного волжского города, но на Волге подкидыш не засиделся. В тысяча девятьсот восьмом году молодой Пролетарский пришёл в Петербург из южного города Ялта и сделал карьеру головокружительную: стал третьим фотографом Николая, а император и сам неплохо разбирался в фотоискусстве. Теперь же Пролетарский был главным светописцем Ленина. Все официальные съёмки поручались исключительно ему. Нет, пытались и другие, но выходило не то. Не вождь большевистской партии, а обыкновенный усталый человечек. И потому подобные попытки прекратили волевым решением.
Колокольчик звякнул дёшево, скромно. Простенький колокольчик, жестяной. При царе такого бы стыдились даже во второразрядном заведении, а сейчас – в самый раз.
Клиентов сегодня оказалось чуть. Красноармеец пришёл забрать карточку, и теперь придирчиво разглядывал себя в рамке.
– Как думаешь, товарищ, хорошо получилось? – протянул он карточку Арехину. – Вид геройский?
Арехин взял, осмотрел внимательно. В одной руке красноармеец держал винтовку с полуторным штыком, в другой революционный «Маузер», на поясе – три «лимонки».
– Орёл, – подтвердил Арехин. – Хотел бы я хотя бы вполовину так выглядеть.
– А ты шляпу на кепку поменяй, очки сними, и будешь тоже ничего, закваска-то в тебе имеется, – добродушно ответил красноармеец, забирая фотокарточку.
Он ушел, а Арехин посмотрелся в трюмо: как тут разглядеть закваску?
Пролетарский вышел из печатной, рукою отослав помощника на улицу – завлекать клиента.
– Готовы документы, Александр Александрович. В закуток пройдемте.
«В закуток» – это в маленький чулан сбоку. А документы – финский паспорт, невзрачный, потрепанный.
– К новым документам и внимание новое. Старательная подделка часто выглядит, будто пять минут, как с типографского станка сошла. А настоящий документ прост и невзрачен, он уже сто проверок прошел, уже в ста руках побывал, не всегда чистых, и тем вызывает доверие.
– Но ведь это – подделка?
– Как можно, Александр Александрович! Документ натуральный. Только слегка на вас подправлен, ну, как портной костюм подгоняет. В Коминтерне тоже мастера есть, но уж больно казённо исполняют, да и стараются, аж дым уз ушей. А это чувствуется. Казённый человек на казённого человека нюх имеет особый. Если не к документу придерется, так к чему другому. Смотрит клиент робко, или, напротив, нагло. Стоит не по одёжке. Но больше всего знатоки на обувь смотрят. Впрочем, кому я говорю… А этот документ – как алексеевская постановка. С предысторией и сверхзадачей. Берешь документ и видишь, что занимался им бедный чиновник, последняя спица в колесе, дома сварливая жена и пятеро детей, да теща вдобавок, а по службе никаких надежд на продвижение… Избылся, спустя рукава работал. Не за деньги, а за страх, что со службы погонят. К таким документам вера самая сильная. Врать не стану, мастер высокого полёта неладное заподозрить может, но мастера высокого полёта высоко и летают. Документы проверять им недосуг, разве экспертизу поручат. Но для экспертизы опять-таки попасться нужно, а с этим документом не попадёшься. Ну, если заранее свой же человечек сдаст, но тут уж любой документ бессилен: кому быть повешену, тот не простынет. А и простынет, невелика беда.
С мастером Арехин рассчитался загодя, казалось, можно бы и разойтись, но Пролетарский не торопился. Время тянул или просто поговорить хотел.
– Не сочтите за нескромность, но не желаете ли на портрет сняться? – спросил вдруг Пролетарский
– В чем же здесь нескромность?
– Ваше время дорого.
– Не дороже вашего, я полагаю. Но мне портрет не нужен.
– Сейчас не нужен, а потом… И для истории: Александр Арехин перед битвой за шахматную корону.
– До шахматной короны далеко. А, впрочем, почему бы и нет.
Фотографий Арехина существует множество, вот и на всероссийском турнире запечатлели, и с Лениным за доской. Пусть будет ещё одна.
– Тогда, пожалуйста, встаньте сюда, – Пролетарский подвел Арехина к выделенному углу павильона. – Трость возьмите в левую руку…
– Я не пользуюсь тростью, – возразил Арехин.
– Это своего рода символ скипетра. Ну, и того, что вы готовитесь побить нынешнего чемпиона. В фигуральном смысле, разумеется.
Арехин покорился. Взялся за портрет…
– А в правую возьмите сигару.
– Я не курю сигары.
– Сигара кубинская, и это тоже символ, – Пролетарский достал из ящичка сигару, на вид свежую. Откуда, интересно, он их берёт? Поступь новой экономической политики?
Прежде чем снять портрет, Арехину пришлось причесаться, почистить пиджак, брюки и даже туфли, несколько раз менять позу, меняя трость и сигару местами. Но очки снять он отказался категорически:
– Это тоже, если хотите, символ.
– Какой же, позвольте спросить?
– Многозначный. Ответ Малевичу.
Пролетарский только хмыкнул, но настаивать не стал. Вспыхнула обсыпанная магнием бумажка, и действо свершилось.
– Кстати, вы заметили, что люди последнее время сильно изменились? – сказал Пролетарский. – Я имею в виду физически.
– Вы находите?
– Это очевидно. Прежде всего рост. Фотограф это сразу замечает, камера – тот же ростомер. После войны мужчины стали ниже на восемь сантиметров.
– И чем вы это объясняете?
– Призывают-то в первую очередь здоровяков, кровь с молоком. Когда их выбьют, идет в дело второй сорт, третий… Сколько богатырей полегло на войне? А в мелкого и попасть труднее. Но это только начало.
– Начало чего?
– Те, погибшие на войне здоровяки, парни лет двадцати, потомства зачастую и не оставили. А кто по всяким врожденным и приобретенным болезням от войны освобождались, те сейчас и дают основной приплод. На детей посмотрите, на вид, на повадки…
– Я посмотрю, – серьезно сказал Арехин.
– Вам не до этого, я понимаю. Но если лет этак через пятнадцать-двадцать случится новая большая война, особенно победоносная, то человека, к которому мы привыкли в девятнадцатом веке, найдешь разве в фотографических альбомах. Да и то… Кто-то альбомы и сохранит, а большинство, пожалуй, и выбросит. Чтобы не смущали. Останутся архивы мастеров разве…
– Вы полагаете, что их уничтожат?
– Кого? Мастеров или архивы? – вопросом на вопрос ответил Пролетарский. – Хотя это софистика, уничтожение одних обязательно сопровождается уничтожением других.
– И кто же будет уничтожать ваши архивы? Враги, интервенты?
– Почему же непременно враги? Злейший враг мастера – время, преломляющееся в общественном вкусе. Где они, томы Тредиаковского, Кантемира и Хераскова? Впрочем, враги тоже найдутся, как же без врагов. Но не будем о грустном. Куда прикажете прислать фотопортрет?
– Знаете, оставьте у себя. Я сам за ним зайду, – и Арехин решительно распрощался с Пролетарским. Не хотелось ему углубляться в дебри искусствознания. День солнечный, новая экономическая политика набирает обороты, в чайных появились бублики, жизнь определенно карабкалась в зенит. Вот только последние калоши оприходовали. Чушь калоши. Предрассудок, – и он пошел по неметёной мостовой.
Пролетарский смотрел ему вслед, покуда Арехин окончательно не скрылся за спинами обывателей.
Тогда он кликнул с улицы помощника, пусть теперь здесь работает, сейчас клиент повалит косяком. Сам же он пошел обрабатывать пластину с запечатленным Арехиным, цыкнув на предложившего пособить помощника. Рано ещё. До подмастеря расти и расти. Его дело – красноармейцы и новые купчихи. Последних было мало, точнее, совсем не было, но Пролетарский ждал наплыва со дня на день.
Фотопластина была с уникальной эмульсией, такие он делал сам, тратя на эмульсию и драгоценные реактивы, которых в каталогах не сыщешь, и время, которое сыскать было ещё сложнее. Пластины этого типа он берёг только для особых персон. Особых не в смысле чина, родовитости, карьерных достижений и перспектив, не в смысле и художнического образа (хотя Арехин так или иначе подходил бы под любую категорию). Его интересовали лица причастные. А причастность, она штука такая… Не каждый видеть может. Пролетарский и не видел, только догадывался, но догадки старался проверить алгеброй, суть светописью, комбинацией физики, химии, геометрии и наук доселе неведомых.
Предупредив помощника, что запирается, что без самой крайней нужды беспокоить его нельзя, он приступил к процессу извлечения изображения. Ничего особо сложного в процессе не было, тысячи гимназистов во время оно тратили свое время на то, чтобы остановить на пластинке время чужое.
И где те гимназисты?
В темно-красном отсвете фонаря проступало отражение действительности. Пролетарский был светописцем опытным, и выводы делать не спешил. Довел процесс до финала и поставил пластинку сушиться.
Время имелось – искусственно ускорять сушку было рискованно. Он сменил темно-рубиновый фильтр фотографического фонаря на светлооранжевый и достал особый альбом. На карточках были те, причастные. Всех чинов и званий. Но фотобумага чины и звания не фиксировала. Она фиксировала иное. Изменение облика объекта наблюдения во времени. И менялся облик… нехорошо. А рядом появлялись субъекты, вовсе глазу невиданные. Порой туманные, а порой и слишком резкие.
Пролетарский спрятал альбом в специальную папку с замочком. Замочек, конечно, ерунда, дань традиции. Прежде он и отпечатки делал на особой бумаге, такой, что если упадет на неё дневной свет, то через пару часов бумага рассыпалась. На солнце и получаса хватало. А затем дошло, что глупости это. И без него найдутся желающие превратить в пыль, расточить, сжечь. Нужно будет – и мастерскую сожгут, и целый город: у Пролетарского была своя теория пожара восемьсот двенадцатого года. Потому он просто прятал папку с фотокарточками среди папок брака. Для последующего извлечения серебра. На черный день. Помощник, услышав о серебре фотобумаги, было загорелся, но узнав, что в сотне листов отпечатков серебра меньше, чем в полтиннике, да ещё реактивы денег стоят, да работы немеряно, тут же и остыл.
Пластинка с Арехиным высохла. Пролетарский сделал пробный отпечаток, проверил его с увеличительным стеклом.
Ничего необычного. Либо Арехин не был причастным, либо же причастность его была особого рода. Такие тоже попадались Пролетарскому, но отчего-то их судьба была печальной: тяжелая болезнь, шальная пуля, а чаще просто исчезали. Исчезали, будто и не было их никогда. Даже в благопристойные времена подобные случаи встречались, а уж сегодня…
Он сделал полдюжины фотокарточке Арехина – на тисненой кремовой бумаге.
Этот запросто не исчезнет. Вряд ли.
3
Времени было и много, и мало. Как считать, на что тратить. Обычно следовало начинать с оценки позиции. Обычно, но не сейчас. Сейчас Арехин не знал ни размеров доски, ни количества фигур, ни даже того, за белых он играет, или за черных. Нехватка сведений ещё опаснее нехватки свежего воздуха. Вот он и пополнял второе, думая, как быть с первым. Шёл по Бульвару Стеньки Разина (бывшим Губернаторским Аллеям) и дышал полной грудью. Перевалившее через зенит солнце не пекло, а ласково грело, и облака, пока легкие, как пирожные «безе», придавали небу вид кондитерской месье Гаспарина, кондитерской, где в самый знойный день было свежо и прохладно. Зайти, что ли, посмотреть, как новая экономическая политика благотворно влияет на дамский рай?
Но не пошёл. И далеко, и не был уверен, что кондитерская расцвела. Не срок ещё. Главное же – нужно было побывать в другом месте. Отнюдь не в кондитерской.
Если отправиться сейчас, поспеет к трем пополудни.
Он подал знак, и через несколько секунд кабриолет катил рядом с ним. Знает Григорий толк в лошадях, и правит, как Аполлон, доведись тому править колесницей по московским улицам и закоулкам. Не хуже Трошина, который после январского ранения физически выздоровел, но честно сказал, что устал и боится. Теперь Трошин заведует театральными конюшнями. Тоже карьера.
Арехин легко вскочил в кабриолет (заметив про себя, что легкость далась с трудом, нужно больше заниматься гимнастикой).
– В ларец, – сказал он Григорию. Тот понимающе кивнул. Арехин не заметил, что именно сделал Григорий, но Фоб и Дейм побежали много резвее. Не так резво, как на пожар, но и не так, как ванька везет на вокзал дачника. Умеет Григорий управляться с лошадьми. И те его любят. В детских книгах лошади часто любят добрых и отзывчивых людей, лошадиных чувств не обманешь, лошади безошибочно распознают негодяев, воров и обманщиков. В общем, должность следователя – явно лошадиная. Но насчет лошадей и в детстве Арехин сомневался. Одно дело любить лошадей, на это они, лошади, и в самом деле могут быть чуткими судьями. А другое – таскать сахар из буфета. И одно с другим совершенно не соотносится. А уж если сахаром поделиться с лошадью, тут любая лошадь полюбит сахарного вора.
Кабриолет меж тем катил тихо и покойно: в марте Григорий полностью разобрал его, потом полностью же собрал, что-то заменив и добавив, и с той поры смазывал постоянно, и не дегтем, а специальным маслом, которое доставал одни лошади ведают как.
Ларцом москвичи называли небольшой особняк, построенный Шервудом аккурат между наступлением Брусилова и отречением Романова. Кому-то нравилась новизна архитектуры, другие хвалили здание за демонстративную простоту, но сегодня оно было известно тем, что в нём с начала дискуссии о профсоюзах почти безвылазно работал Троцкий. Дискуссия уже утихала, но Лев Давидович не спешил покидать приметный особняк, чем порождал многочисленные слухи.
– С чёрного заезжать? – спросил Григорий, но, поняв неуместность вопроса, подкатил к парадной лестнице.
Охраны не было, но перед лестницей слонялись случайные прохожие числом трое. Слонялись молча, не курили, кулаков в карманах не держали, в небо не смотрели. Десять шагов в одну сторону, десять в другую. Народный патруль, стало быть. При виде экипажа встрепенулись, но когда Арехин соскочил (нет, обязательно нужно заняться гимнастикой), продолжили свой ход: если они кого и опасались, то никак не одинокого визитёра гражданской наружности.
Арехин по лестнице поднялся быстро, лестница – замечательный гимнастический инструмент. Швейцара, разумеется, не было, дверь открывалась лишь половинкой. Экономия сил, да и тепла. Сейчас тепло экономить нужды не было, но ведь придет осень, за ней зима, чего же зря напрягаться, раскрывать двери полностью. Потом ведь закрывать придётся. Не прежний режим.
Внутри ларец был живее, чем снаружи. По коридорам и лестницам сновали граждане и гражданки, с бумагами и без, из кабинетов доносился стрекот ремингтонов, где-то горячо, до хрипоты, обсуждали проект постановления, принимать ли во второй редакции, или в третьей, в общем, никаких признаков умаления величия и влияния Льва Давидовича неискушенный взгляд бы не заметил.
Искушённый заметил. В гражданскую войну рядом с Троцким было много тише, чем теперь. Не требовались тогда Льву Давидовичу внешние признаки напряженной работы. Хотя… Иногда и требовались.
В приёмной сидели трое, но Сулико Лазаревна при виде Арехина кивнула ему, как своему, и показала на дверь в кабинет, мол, входи, не стесняйся. Обычно секретарша была менее приветлива.
Арехин прошёл под взгляды ожидающих, не то завистливые, не то сочувствующие.
В кабинете Лев Давидович проводил совещание с дюжиной ответработников неопределённого профиля. Оглянувшись на Арехина, он махнул рукой, погоди, товарищ, закругляюсь. Остальные на Арехина не оглядывались, смотрели только на Троцкого.
– Трудовое воспитание следует начинать как можно раньше, – горячилась молодая девушка. – Лет с двенадцати.
– В деревне с пяти лет все при деле, – ответил ей пожилой человек профессорского вида.
– В деревне труд индивидуальный, а мы говорим о труде коллективном.
– В общем, товарищи, нам есть о чём подумать. Позвольте на этом считать заседание завершенным.
– А резолюция…– возразила девушка.
– Вот вам я и предлагаю подготовить проект резолюции и представить на обсуждение, скажем, часа через полтора. Председателям комиссий явка обязательна. Все свободны.
Дисциплину Троцкий держал на высоте: через минуту кабинет опустел.
– Казалось бы пустяк, детские трудовые отряды, но из семечек вырастают дубы, – сказал Троцкий Арехину вместо приветствия.
– Дубы вырастают из желудей, – возразил Арехин.
– То прежде. Сколько нужно лет, чтобы жёлудь превратился даже не в дуб, а в дубок? А нам нужно завтра, сегодня, а лучше вчера. Нет, семечки, только семечки и ничего, кроме семечек – таков сегодняшний лозунг. Жёлуди оставим до лучших времен, – Троцкий обошел стол заседаний, подошел к Арехину и, глядя в глаза, пожал руку. – Значит, Ильич поручил вам проверить чистоту нравов ближнего круга?
– Задача была поставлена иначе, – ответил Арехин.