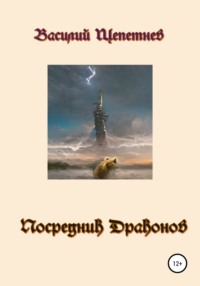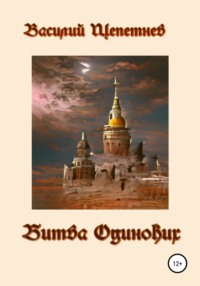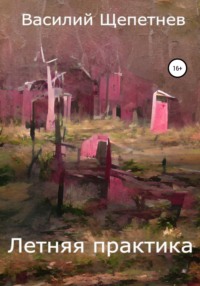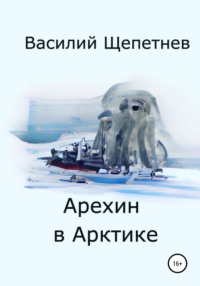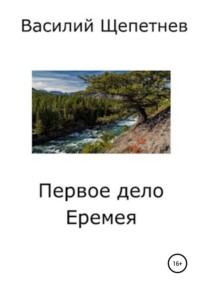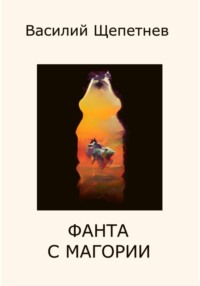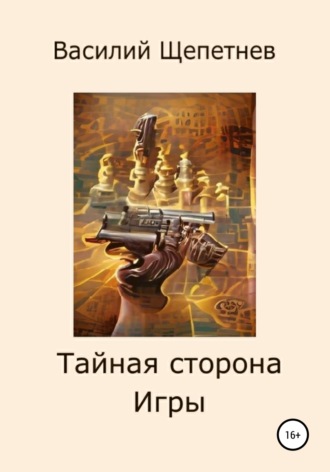
Полная версия
Тайная сторона Игры
«Паккард» остановился, но Арехин еще минуты две сидел неподвижно, потом очнулся, тряхнул головой.
– Думали, товарищ Арехин? – осторожно спросил Сашка.
– Пытался, – коротко ответил Арехин.
Бравый Арсений Иванович распахнул дверь автомобиля. К удивлению Сашки, они приехали не в МУС, а в совершенно незнакомый двор – тихий, чистый и очень порядочный – в смысле, что все вокруг было в полном порядке, никаких поваленных скамеек, надписей на стенах, подтеков мочи и куч говна. Окна – веселые, с нарядными шторами. Ну, будто в старое время вернулись.
– Не удивляйтесь, Александр. Этот двор – подобие эталонного метра. Хотят экспериментальным путем проверить, когда быт пролетарский догонит и перегонит быт буржуазный. Чтобы было с чем сравнивать, дом содержится, словно бы и не было революции.
И действительно, даже на фартуке дворника, запиравшего за «паккардом» ворота, блестела начищенная бляха.
– И живут здесь по-прежнему буржуи? – спросил ошеломленный Сашка.
– Частично. Специалисты, престарелые, дети – поправил тезка А. – Но и пролетарии, конечно, тоже. Какой же дворник или слесарь буржуй?
– И – не уплотняют?
– Ни-ни. Строжайше запрещено. Захочешь друга подселить, родственника, даже отца с матерью – не сможешь. На ночь остаться, максимум на две – ладно, а потом – ступай восвояси. Иначе через месяц дом пропадет, в теремок превратится, как в сказке…
Они подошли к парадному крыльцу, где швейцар открыл дверь.
Сашка, поглядев, как Арехин и водитель оставляют калоши под лестницей, смутился – у него калош не водилось. А кругом чисто, на лестнице ковер, прутья медные горят, ни соринки.
– Ничего-ничего, – ободрил Арехин. – Погода сухая, да и мы не сколько ходили, сколько ездили.
Вытерев подошвы о специальный щетинистый половичок, Сашка поднялся в третий этаж. Зачем они сюда идут, он не догадывался, но смотрел в оба – знал, что товарищу Оболикшто каждая мелочь пригодится.
Оказалось – пришли они передохнуть и пообедать.
Обед подала прислуга. Сначала Сашка растерялся от лишних вилок да ложек, но потом, глядя на шофера, приноровился. Хотелось спросить, откуда провизия, но постеснялся.
После обеда водитель вернулся к «паккарду» – ему там удобнее, и вообще – глазок-смотрок. А Сашку тезка Аз провел в библиотеку. Книг – пять шкафов, каждый пребольшущий. Не-ет, здесь ни книгами, ни шкафами не топят. Пока.
Да и не протопишь, большая комната, потолки высокие, в лепнине. Арехин усадил Сашку в кресло, сунул в руки журнал «Всемирный следопыт» а сам сел напротив.
– Я немножко отдохну, вы уж извините, Александр. Можете тоже подремать, если хотите, диван полностью в вашем распоряжении.
Зачем диван, кресло само было как диван – большое и мягкое. Но дремать Сашке не хотелось, оставалось листать журнал. Если честно, в грамоте Сашка был не силен, по складам кое-как читал, но дела этого не любил. Привычки не выработал. Где ж ее вырабатывать, с восьми лет в людях.
Арехин сел в другое кресло, целиком деревянное, жесткое и неудобное, взял со стола газеты и стал читать. Или картинки разглядывать, больно уж быстро он переворачивал страницы.
Сашка тихонько вздохнул: делом нужно бы заняться, а они барствуют, газетки листают, журнальчики.
Арехин вздох этот услышал, опустил газету и сказал:
– Сыщику необходимо читать газеты. Профессиональная обязанность. Особенно письма граждан и ответы на них. Вот, например, заметочка: в газету пришло письмо, подписанное академиком Павловым с жалобами на то, что в доме сорок два по улице имени товарища Троцкого постоянно отключают свет, тем самым мешая нормальной работе академической мысли. Письмо это редакция направила в Цекубу, где ответили, что академик ни в доме сорок два, ни в каком ином доме по улице имени товарища Троцкого не проживает, и, следовательно, письмо это – подделка. Газета делает вывод: есть у нас несознательные граждане, которые, прикрываясь именами ответственных людей или больших ученых, пытаются улучшить свое личное положение.
– А кто такой цекубу – спросил Сашка более для поддержания беседы, поскольку ему лично все эти жалобы на отсутствие света казались смешными. Люди больше боятся, когда свет включают – значит, в квартале проводятся обыски и реквизиции.
– Цекубу? Центральная комиссия по улучшению быта ученых, – Арехин отложил газету, взглянул на большие напольные часы:
– Приват-доцент Христофор Теодорович Пеев к этому времени обещал вернуться с похорон и ждать нас.
– Пеев? Это который сегодня был на поминках?
– Именно. И вчера в квартире вместе с сестрою убитой тоже. Впрочем, вчера вас, Александр, там не было.
– Да я… С устатку…
– Пять минут на сборы, и едем к приват-доценту. Поговорить по душам, – объяснения Сашки мало интересовали Арехина.
Поговорить Сашка был не против, только ведь опять говорить будет не он, он будет слушать. Весь день только слушать – утомительно. Когда ж бандитов ловить станем, убийцу этого?
Приват-доцент работал в небольшом госпитале на Каретной, и жил тут же, во флигеле, в маленькой, но отдельной комнатке.
Встретил он Арехина с Сашкой без страха, даже с облегчением:
– Я, признаюсь, ждал вас раньше.
– Раньше? – Арехин достал из кармашка часы, золотые, с музычкой. – Но мы договаривались на девятнадцать тридцать, не так ли?
– Да, да, вы совершенно правы. Раньше – я подразумевал неделю назад, или месяц. Тогда бы и Лизавета, быть может, была бы жива.
– Кто ж вам мешал – поговорить?
– Всякие обстоятельства. Боязнь, прежде всего.
– Боязнь чего?
– Разве мало причин?
– Причину всегда найти можно, – согласился Арехин, – но если доцент не идет к МУСу, МУС идет к доценту. Вот и пришел. Сидит. Слушает.
– Вы кого-нибудь подозреваете? – спросил Пеев.
– Я пока собираю факты, – ответил Арехин. – Собираю, взвешиваю, делаю выводы.
– А я подозреваю, но… Впрочем, сначала я должен показать вам кое-что.
Пеев открыл книжный шкаф. Шкаф был поменьше, чем у Арехина, да и книгам отводилась только казовая, верхняя часть. Нижняя, закрытая, оказалось пустой. Не совсем пустой – там стояла коробка, дешевая картонка.
Пеев достал ее, переложил на стол, открыл. В ней были бумажные завертки, много, с дюжину. Пеев выбрал крайнюю, развернул.
Под бумагой оказался стеклянный сосуд, на шкалик, стекло толстое, крышка широкая, особенная, из-под нее капли не прольется.
А внутри склянки в прозрачной жидкости плавал глаз.
– Человеческий? – спросил Сашка.
– Вполне, – приват-доцент по очереди освободил и другие склянки. В каждой плавало по одному глазу.
– Все это, – показал рукой на коробку приват-доцент, – я получил не разом. Поштучно, так сказать.
– Сразу после убийств? – спросил Арехин.
– Нет, спустя неделю, а то и больше.
– Каким путем?
– Приносили посыльные, обычные уличные мальчишки. Ставили на крыльцо, звонили и убегали.
– А вы…– не договорив, Арехин вопросительно посмотрел на Пеева.
– А я прятал их в шкаф. Наверное, мне стоило пойти в полицию.
– Полицию?
– Первую… посылку я получил в декабре 1916 года. Хотел сразу же в полицию, но меня отговорили. Да я и не упорствовал, признаюсь. У меня по-прежнему болгарское подданство. Сейчас это мало кого волнует, а тогда… Все-таки моя страна воевала против России. Еще не известно, стали бы искать преступника, или схватили бы меня, поминай, как звали.
6
Иностранцы любят украшать язык пословицами и поговорками, подумал Арехин.
– Значит, в полицию не пошли, – уточнил он очевидное.
– Не пошел, – подтвердил Пеев.
– А следующая посылка…
– У меня все записано, – и он протянул Арехину листок. Писалось в разное время, по мере пребывания даров, тому свидетельством были и разные чернила, карандашные записи, наконец, незначительные, но все-таки заметные различия почерка: пишущий волновался всегда, но волновался каждый раз по-другому.
Посылок было больше, чем убийств, известных уголовному сыску. Но те, о которых сыск все-таки знал, пожалуй, попали в список Пеева: тот получал страшные посылки от пяти до десяти дней спустя.
– Почему же убийца посылает их именно вам, Христофор Теодорович?
– Полагаю, этим он хочет меня наказать.
– За что?
– Я не знаю.
– Но догадываетесь?
Пеев замялся. Потом сказал:
– История, вообще-то, долгая…
– Ничего, вы рассказывайте. Даже роман Вальтера Скотта, если убрать страницы о красотах природы, можно пересказать довольно быстро.
– Я… Я – единственный ученик профессора Бахметьева. Вы о нем, конечно, слышали?
– Если вы имеете в виду Порфирия Ивановича Бахметьева, то слышал.
– Да, именно Порфирия Ивановича. Он преподавал у нас в Софийском университете. Студенты его боготворили, начальство недолюбливало: слишком уж необычные идеи выдвигал профессор. Среди них – теория анабиоза, состояния, при котором организм не стареет, а, напротив, омолаживается.
– Это как? – не выдержав, перебил тезка Он.
– Сродни медведям, впадающим в зимнюю спячку, только спячка та куда глубже. Порфирий Иванович считал, что шестидесятилетний человек может уснуть лет на сто и проснуться, биологически соответствуя сорокалетнему возрасту, если не моложе.
– Вот так прямо взять и уснуть? – не поверил Сашка.
– Сон этот – холодный. При отрицательной температуре. Минус пятнадцать по Реомюру. Разумеется, если человека просто взять да и заморозить, он умрет: вода превратится в лед и безнадежно разрушит структуру любой ткани. Но определенные субстанции, вырабатываемые организмом, переводят воду в переохлажденное состояние. Ее температура отрицательная, а она, вода, все равно жидкая.
Если эту субстанцию ввести в организм человека, то он перенесет минус пятнадцать безо всякого вреда для себя, напротив, те изменения, что накапливаются в тканях с возрастом, могут исправиться. Должен сказать, что насчет омоложения профессор не был решительно уверен, но в достижимости долгой и безвредной спячки не сомневался…
– И ему это удалось?
– Отчасти. Он погрузил в анабиоз при минус десяти градусах летучую мышь, и продержал ее в таком состоянии месяц, после чего вернул ее к полноценному существованию.
– Летучие мыши, как известно, и сами впадают в спячку.
– Именно поэтому с нее и начал Порфирий Иванович. Но затем он повторил опыт с кошкой, существом совершенно иной организации. Десять дней при минус десяти градусах – и та ожила, да еще как ожила! Убежала из лаборатории!
– Вы говорите о минус десяти, а вначале упоминали о минус пятнадцати.
– Ведь это только опыты. Для ста лет минус десять градусов мало, а для месяца достаточно. Есть сложности с аппаратурой. И главное, профессора Бахметьева начала преследовать некая секта. Он получал письма с угрозами.
– Откуда вы знаете?
– Я уже сказал – я был его единственным учеником. Порфирий Иванович считал, что и я подвергаюсь опасности.
– Но была ли эта опасность реальна?
– Была, – коротко ответил Пеев.
– Хорошо, допустим. Но полиция…
– Болгарская полиция, вернее, один умный полицейский, хорошо относящийся к профессору, сказал, что реально защитить полиция не может никого, даже царя.
– Что ж, Сараевское дело, да и другие показали, это он был прав, ваш полицейский.
– Обстоятельства сложились так, что профессору пришлось покинуть Софию и вернуться на родину, в Россию. Вместе с ним приехал сюда и я. Профессора пригласили в народный университет Шанявского, он возобновил научно-практическую работу, но в декабре 1913 года скоропостижно скончался. Меня не было в Москве, по просьбе профессора я совершал поездку в Румынию, потому утверждать, что смерть профессора вызвана внешними причинами, не могу, хотя сомнения у меня есть: Порфирий Иванович здоровьем обладал отменным, вредных привычек не имел, его образ жизни любой физиолог назвал бы идеальным, да и шел ему всего пятьдесят четвертый год.
После смерти профессора я, в меру своих скромных сил, продолжил работу учителя. Война, конечно, вредила и здесь: стало трудно заказывать оборудование, которое мы обыкновенно покупали в Германии. Трудно было и с деньгами, впрочем, Институт Экспериментальной Медицины проявил большой интерес к моей работе и финансировал ее довольно-таки щедро, применительно к военному времени.
Но здесь моя несчастная родина вступила в войну на стороне противников России! Я испугался, что меня интернируют и поспешил… поспешил с экспериментом. Я решил погрузить в анабиоз человека. Один из студентов ассистировал мне при синтезе жидкости Ку – так я назвал – временно – состав, открытый профессором Бахметьевым, состав, предотвращающий образование льда в тканях. Так вот, этот студент пришел с войны, на которой получил ранение… довольно неприятное ранение. И он настаивал, чтобы именно ему выпала честь стать первым человеком, испытавшим анабиоз.
А я… Я согласился. Я был уверен в успехе эксперимента и надеялся, что успех упрочит мое положение, и, даже, может быть, исправит представление о Болгарии как стране неблагодарной, бьющей в спину России.
Эксперимент удался. Свою помощь и свою клинику для эксперимента представил другой энтузиаст науки. В университетской лаборатории опыт над человеком я поставить, разумеется, не мог. Это не был глубокий анабиоз, на первом этапе мы ограничились преданабиозом: температура тела была охлаждена до плюс двенадцати градусов по Реомюру. Все физиологические процессы замедлились приблизительно в сто раз.
Спустя неделю мы начали процесс восстановления жизненных функций, и еще через день студент восстал с экспериментального ложа в полном здравии и ясном сознании. Так мне, во всяком случае, тогда думалось. Он был полон энергии, новых идей.
Но на второй день нахождения в клинике студент исчез. Убежал.
Вскоре я получил письмо, в котором студент писал, что задумал истинную революцию: пересадку головы. Если взять умную голову неизлечимо больного человека и пересадить на туловище здорового глупца, писал он, общество выиграет вдвойне – избавится от дурака и сохранит умного. Этим он и решил заняться.
Я не думаю, не уверен, что именно пребывание в анабиозе изменили психику студента. И до того он был личностью странной, эксцентричной. Чего скрывать, сам факт согласия стать объектом эксперимента говорит сам за себя.
Я отложил письмо, не решив, признак ли это психоза или просто неумная шутка. Но тут случилось страшное событие: одного из студентов университета, также интересовавшегося проблемами анабиоза, нашли обезглавленным. Тело его было практически лишено крови. А спустя пять дней я получил первую посылку… – и Пеев указал на одну из склянок с плавающими глазами.
– Вы не назвали имени студента, – негромко сказал Арехин.
– Имени? – Пеев заглянул в блокнотик. – Валентин Кожинов, он открывает список жертв.
– Я говорю о другом студенте. О том, кого вы погрузили в холодный сон.
– Холодный сон? Пусть холодный сон. А имя его… Имя его полиции известно. Это Матвей Доронин.
Арехин посмотрел на Сашку, впрочем, больше для порядка. Сашка дернул головой – полиция, как же? Они – не полиция, а революционный уголовный сыск.
– Боюсь, мне… нам об этом ничего не известно.
– Не удивительно. Полицию разгромили в первые революционные дни, погибли архивы, пострадали люди… Насколько я помню, Доронин попался во время второго убийства, его схватили, доставили в полицейский участок, допросили, а потом, при пересылке в тюремный изолятор Доронин бежал, выказав невиданную силу. Трое конвоиров серьезно пострадали.
– У него оказалось оружие?
– Руки. Зубы.
Пеев помолчал, затем продолжил:
– Я потому и не сообщал в полицию об этих посылочках. Знал, что Матвей Доронин в розыске, что именно он – подозреваемый номер один во всех ужасных убийствах. Рассказать, что он посылает мне глаза своих жертв – значило только связать свое имя с убийцей, привлечь ненужное внимание полиции. А я еще и подданный враждебной страны…
Потом свершилась революция, погибли сотни, тысячи людей, в гражданскую счет идет на миллионы. И вот приходите вы, новая полиция новой власти.
– Мы не полиция, – вскинулся Сашка.
– Прошу прощения, – без малейшей иронии ответил Пеев. – Уголовный сыск, конечно. Надеюсь, вы сделаете больше, чем полиция прежнего режима.
– Мы постараемся, – пообещал Сашка.
– Но почему – глаза? И почему – вам? – спросил Арехин.
– Не знаю. Быть может… быть может, он меня не любит. Или, напротив, любит, как понять мысли сумасшедшего? Я считаю, что он каким-то образом пытается оживить головы своих жертв. А когда это не удается, извлекает глаза, консервирует их, и присылает… Думаете, я сам не ломаю голову, почему – мне?
– А список жертв? Он ничего вам не говорит?
– Некоторые из этого списка были моими студентами.
– А последняя жертва? Елизавета Смолянская?
– Она посещала лекции профессора Бахметьева, но после его кончины прекратила. Мы были знакомы, хотя гораздо лучше я знаю ее сестру Наталию.
Дверь без стука распахнулась:
– Доктор, там больному хуже стало, – позвал санитар. С порога слышалась сивуха.
– Иду, иду, – Пеев поднялся. – Извините, должен вас покинуть.
– Я вас провожу. Только два вопроса. Тот доктор, в клинике которого вы проводили эксперимент, кто он и где он?
– Клиника перед вами, сейчас это госпиталь для раненых. До революции она принадлежала доктору Вандальскому, Петру Николаевичу. Сразу в феврале он написал дарственную на клинику на мое имя – не знаю, имела ли она тогда законную силу, сейчас-то, очевидно, нет. А сам отправился в Финляндию, откуда намеревался перебраться в Швецию, а после окончания войны – в Германию. Ему, специалисту по челюстно-лицевой хирургии, война заготовила работы на многие годы вперед. Вестей от него не имею.
– Доктор, поживее, – нетерпеливо позвал санитар.
– Вот, видите. Страна победившего пролетариата.
– Ну, от санитара-то я вас, пожалуй, избавлю, – ответил Арехин. – Ну-ка, милейший, извольте подойти поближе.
– Это ты мне говоришь, что ли? – с удивлением спросил санитар.
– А разве здесь есть еще кто-то?
– Коли нужен, сам и подходи. Теперь не прежние времена, когда буржуйские вши нами помыкали.
– Ах, подойти. Ну, хорошо, подойду, – Арехин неторопливо приблизился к санитару. Сашка и глазом моргнуть не успел, как санитар согнулся пополам.
– Йййй – тоненько застонал санитар. Тоненько и тихо.
– Ты, дружок, верно сказал, теперь не старое время. Чикаться с тобой некогда и некому. Фамилия?
Санитар пытался ответить, но, кроме судорожного писка, ничего не выходило.
– Зачем вы так? – спросил Пеев.
– Надо, Христофор Теодорович, надо. Вы идите к больному, действительно, вдруг медлить нельзя, а я с санитаром немножко побеседую. Идите, – сказал он тихо, но вышло, что не подчиниться нельзя.
Пеев только вздохнул, бочком проходя мимо согнутого санитара.
– Итак, повторяю – но только один раз. Фамилия?
– И… Иванов, – с трудом выговорил санитар.
– Иван Петрович, Курской губернии, Щигровского уезда, Каменской волости, деревня Лыково?
– Так точно.
– Что ж ты, Иван Петрович, воруешь? И у кого, у своего брата-пролетария?
– Ни… Никак нет…
– Нет? Не верю. Ну-ка, братец, вставай.
С трудом, но санитар стал во фронт.
– Ну-ка, левый карман выверни, быстро!
– Я… – но, взглянув на Арехина, зачастил: – Это я больным нес, да позабыл…
– Ты выворачивай, выворачивай. Нет, не так, дай-ка, я тебе помогу.
Карман у санитара оказался хитрый: ко дну его был пришит узкий, но длинный мешочек, набитый бинтами, коробочками, пузырьками.
– По законам революционного времени за кражу медикаментов, предназначенных для солдат-красноармейцев… – деревянным, казенным голосом начал Арехин
– Пощадите, – рухнул на колени санитар, – пощадите, Александр Александрович, заставьте век Богу молиться за вас.
– Признал? – усмехнулся Арехин.
– Признал, ваше высокоблагородие.
– И ждешь, что – пощажу?
Санитар не ответил, только всхлипнул.
– Ладно, иди. Я подумаю, – махнул рукой Арехин.
Санитар поднялся и, сгорбленный, на полусогнутых ногах, вышел за дверь.
Сашка молчал, дивился.
– Вот так, Александр. Мир тесен, а натура человека неизменна. Кто до революции крал, тот и сейчас крадет, если возможность видит. Ну, ладно, больше нам здесь делать нечего. Держи, – он дал Сашке коробочку со склянками.
– А… А зачем они?
– Вещественные доказательства.
7
Что такое вещественные доказательства, Сашка не знал, но звучало серьезно. Он вертел слова и так, и этак. Получалось просто: вещи, которые что-то доказывают. Что? Кто-то убивает людей, отрезает их головы, затем вырезает человеческие глаза, кладет их в склянку, заливает музейным спиртом и посылает доктору Пееву.
Сидя на кожаных подушках «паккарда» он поделился соображением с тезкой Аз.
– Не факт, Александр, не факт. Не факт, что глаза эти взяты у жертв. Не факт, что брал их тот же человек, кто совершал убийства. Не факт даже, что все убийства совершал один и тот же человек. Не факт, что их посылали доктору Пееву.
– Но он сам говорил…
– Вот именно – говорил. О посылках мы знаем только со слов доктора. Но вдруг он сам собрал эту коллекцию?
– Доктор и есть замоскворецкий упырь?
– Не факт. В госпитале, где он работает, люди умирают постоянно, слишком тяжелые ранения они получили на фронте. Никакого криминала. Ну, вот Пеев и решил заняться коллекционированием.
Слово «коллекционированием» Сашка не знал, но смысл понял. Собирает глаза на память. В детстве брат его ракушки собирал, что на берегу реки в песке находил. А этот – глаза. Сумасшедший, что ли?
– Нет, Александр, ваша мысль о том, что глаза присылал убийца, вполне здрава, ею мы и будем руководствоваться. Но не следует забывать: есть и другие возможности. Много других возможностей…
– Взять этого Пеева, да поговорить с ним по душам, вот как вы с санитаром.
– Санитара я взял с поличным. Поймал на краже то есть. А ударил…
– Сгоряча, я понимаю.
– Сгоряча? Никоим образом. Доктора Пеева санитар просто третирует. Да и других докторов тоже. Хам и после революции – все хам. Сейчас санитар Иванов боится. Через полчаса начнет злиться. К вечеру начнет хорохориться и подначивать дружков-приятелей напакостить доктору Пееву всерьез.
– Пожалуй, так и будет.
– Но завтра дружки-приятели узнают, что санитар Иванов исчез. Сгинул. И они трижды подумают, прежде чем начнут пакостить и воровать. Я не питаю иллюзий – пакостить и воровать они все равно будут, натуру не изменишь, но делать это будут тайно и куда более скромно, нежели сейчас.
– Сгинет? То есть…
– Нет, расстрельную команду я посылать к нему не стану. Просто завтра утром на фронт отправляется новая часть, которой не помешает опытный санитар. Этим санитаром и будет наш Иванов. Ночью к нему придут и того… срочно мобилизуют. Пусть защищает власть рабочих и крестьян.
– А… А вы его знали прежде, Иванова?
– Да. Он служил в моем отряде. И тогда он тоже крал медикаменты, и сбывал их в обмен не на водку даже, а на золото.
– Это – до революции?
– До революции, до революции, – Арехин откинулся на кожаную подушку сидения. – Вы, Александр, в электричестве разбираетесь?
– Нет. Ни капельки, – ответил Сашка.
– Я, к сожалению, тоже не специалист. Но у меня есть товарищ, дельный инженер. Он нас натаскает немножко. Краткий курс революционного электротехника.
– Зачем?
– Во-первых, в жизни очень даже пригодится. Электротехник будет самым уважаемым человеком в России. Может быть. А во-вторых, нам предстоит стать на время электротехниками.
Следующие четыре часа они провели в Мастерских Всероссийского Электрического общества, где молодой инженер рассказал и показал столько, что у Сашки голова если не распухла, то поумнела наверняка. Как и влезло. Они с тезкой Аз даже попрактиковались: умными приборами мерили напряжение, силу тока, зачищали и соединяли провода, меняли плавкие предохранители, чинили розетки, разбирали патроны, выковыривая цоколи разбитых лампочек…
– Ну, первую ступеньку, приступку в электричестве вы освоили, – сказал на прощание инженер-электротехник, – поучиться бы вам, молодой человек, побольше, тогда…
– А много нужно в электричестве учиться? – спросил он тезку Аз, когда они покинули мастерские.
– Как и в любом другом деле. Всю жизнь.
– Это да, у нас в селе мастера так и говорят – жизнь живи, жизнь учись.
– А что за село, Александр?
– Шаршки, может, слышали?
– Слышал.
– Но вот чтобы работать электротехником?
– Понравилось?
– Интересно просто.
– Как учиться. И как учить. Есть курсы, скоро их будет больше. Но на курсах людей много, учителя разные. Мы за день получили знаний довольно, но практика нужна, навык.