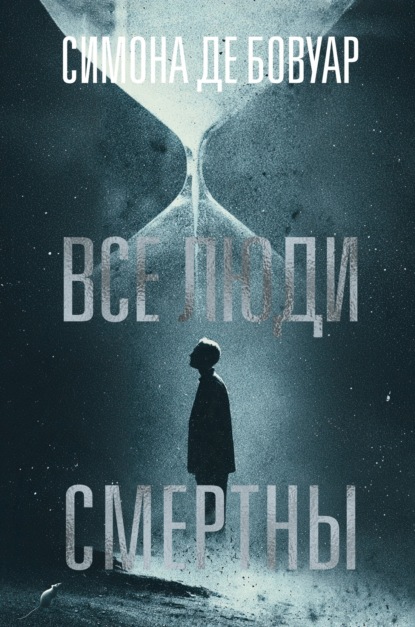Полная версия
Берлин, Александрплац
Вот он на улице, на морозе. У самой пивной – Лина, только что подошла. Они идут медленно. Охотнее всего он вернулся бы назад и объяснил бы своим противникам, какие они безумцы. Ну да, безумцы, им просто морочат головы, а сами по себе они вовсе не такие, даже этот долговязый, нахал-то, который шлепнулся на пол, даже и тот не так уж плох. Они просто не знают, куда девать избыток сил, свою горячую кровь, у них слишком горячая кровь, а доведись им побывать там, в Тегеле, или вообще что-нибудь пережить, у них в мозгах-то и прояснилось бы, да еще как.
Он ведет Лину под руку, озирается на темной улице. Могли бы, кажется, зажечь больше фонарей. И что это людям постоянно нужно, сначала гомосексуалистам, до которых ему нет дела, теперь вот красным? Какое мне до всего этого дело, пусть сами со своим говном разбираются. Оставили бы человека сидеть, как сидит, так нет же, даже пива спокойно выпить не дадут. Эх, пойти бы теперь назад и разнести этому Геншке всю его лавочку. И снова загораются и наливаются кровью глаза у Франца, снова вздуваются жилы на лбу и пухнет нос. Но это проходит, он цепляется за Лину, царапает ей кисть руки, Лина улыбается: «Это, – говорит, – ты можешь спокойно делать, Францекен. Вон у меня теперь какая хорошенькая царапинка на память о тебе».
«Давай кутнем, Лина, в эту паршивую пивную я больше не пойду, будет с меня, курят там, курят, а в клетке сидит этакий маленький щегленок и чуть не задыхается, а им все нипочем». И он объясняет ей, насколько он был только что прав, и она тоже это находит. Они садятся в трамвай и едут к Янновицкому мосту[251], в танцевальный зал Вальтерхена[252]. Он едет в том, в чем был, и даже Лине не дает переодеться: хороша, говорит, и так. А толстушка, когда они уже ехали в трамвае, вытащила из кармана листок, совсем измятый. Это она принесла Францу. Это – Вестник мира, воскресный выпуск[253]. Франц говорит, что таким листком не торгует, жмет ей руку и восхищается красивым названием и заголовком статьи на первой странице: «Через несчастье – к счастью!»[254]
Ручками мы хлоп, хлоп, ножками мы топ, топ, рыбы, птицы, весь день – рай[255].
Вагон трамвая трясет, Франц и Лина, склонившись над листком, читают при тусклом свете лампочки стихотворение на первой странице, которое Лина отметила карандашом: «Лучше вдвоем» Э. Фишера: «Не лучше ли вдвоем идти по жизни тяжкому пути, вдвоем-то лучше идти! Ведь оступиться так легко и до беды недалеко, покуда ты один идешь, покуда друга не найдешь. Коли душа твоя чиста, зови в попутчики Христа. С тобой повсюду и везде, поможет он в любой беде. Дороги знает он и все пути, подскажет он тебе, куда идти»[256].
Пить-то все-таки еще хочется, думает между прочим во время чтения Франц, двух кружек мало, а от разговоров тем более в горле пересохло. Затем ему вспомнилось, как он пел; он почувствовал себя дома и стиснул Лине локоть.
Та чует утреннее благорастворение воздухов. Проходя по Александрштрассе на Гольцмарктштрассе[257], она мягко прижимается к нему: Не объявить ли им себя в скором времени настоящими женихом и невестой?
Вот он какой, наш Франц Биберкопф! Под стать античным героям!
В этом Франце Биберкопфе, бывшем цементщике, перевозчике мебели и так далее, а в настоящее время газетчике, почти сто кило живого веса. Он силен как кобра[258] и снова состоит членом атлетического клуба. Он носит зеленые обмотки, башмаки с гвоздями и непромокаемую куртку. Денег вы у него много не найдете, они поступают к нему постоянно, но мелкими суммами, тем не менее пусть-ка кто-нибудь попробует его задеть.
Мучают ли его, после того, что было – Ида и так далее, – угрызения совести, кошмары, тревожные сны, терзания, эринии[259] времен наших прабабушек? Ничего подобного! Необходимо учесть изменившееся положение. В свое время преступник был человек, проклятый Богом (откуда ты это знаешь, дитя мое?) перед алтарем, например Орест, который убил Клитемнестру[260], и имя-то такое, что не выговоришь, но ведь как-никак она была его мать. (Да вы, собственно, про какой алтарь толкуете? Ну-ка, найдите у нас церковь, которая оставалась бы открытой ночью!) То-то, я и говорю, что положение изменилось. Хой-хо, ату его – разевают на него пасти страшные чудища, косматые ведьмы со змеями в волосах, собаки без намордников, в общем довольно несимпатичный зверинец, но добраться до него не могут, потому что он стоит у алтаря: это, знаете, такое было у античного мира представление; и вся эта нечисть пляшет вокруг него, в том числе и собаки. Без арф, как поется в песне, происходит эта пляска эриний[261], которые затем обвиваются вокруг преступника: умопомешательство, смятение чувств, словом – подготовка для желтого дома.
Нет, Франца Биберкопфа они не мучают. Так и запишем, приятого аппетита, с повязкой в кармане, он выпивает, у Геншке ли или в другом месте, одну кружку пива за другой, пропуская между ними рюмочку очищенной, так что сердце радуется. Таким образом, бывший перевозчик мебели, а ныне газетчик Франц Биберкопф из Берлина, в конце 1927 года существенно отличается от прославленного древнего Ореста. В чьей шкуре быть лучше?
Франц убил свою невесту Иду, фамилия тут, извините, ни при чем, в расцвете ее лет. Началось это дело во время крупного разговора между Францем и Идой в квартире ее сестры, причем перво-наперво были слегка повреждены следующие органы женщины: кожа на носу, на самом кончике и посередке, находящаяся под нею кость с хрящом, что, однако, было обнаружено лишь в больнице и сыграло затем не последнюю роль в суде, и, наконец, плечи – правое и левое, на них оказались легкие ссадины и кровоподтеки. Но затем объяснение молодых людей приняло более оживленный характер. Выражения «потаскун» и «сутенер» привели крайне щепетильного в вопросах чести, хотя и сильно опустившегося Франца Биберкопфа, весьма расстроенного в тот день еще и по другим причинам, в невероятное возбуждение. В нем трепетала каждая жилочка. В руки он взял только небольшую мутовку для сбивания сливок, потому что он уж и тогда тренировался и растянул себе при этом сухожилие на руке. И вот эту самую мутовку с проволочной спиралью он мощным двукратным размахом привел в соприкосновение с грудной клеткой Иды, своей партнерши в вышеупомянутом разговоре. Грудная клетка Иды была до того дня совершенно целой, без малейшего изъяна, чего, однако, нельзя было сказать о всей маленькой особе, крайне миловидной и привлекательной; кстати: живший за ее счет мужчина подозревал не без оснований, что она собиралась дать ему отставку в пользу некоего появившегося на ее горизонте бреславльца[262]. Как бы то ни было, грудная клетка миловидной девицы оказалась неприспособленной к столь стремительному соприкосновению с мутовками. Уже после первого удара Ида взвизгнула ай! и крикнула Францу, не: Сутенер поганый, а: Опомнись! Что ты делаешь? Вторая встреча с мутовкой последовала при неподвижном положении тела Франца и после четверти оборота вправо со стороны Иды. В результате каковой встречи Ида вообще больше ничего не сказала, a только как-то странно, рыльцем, раскрыла рот и взмахнула обеими руками.
То, что произошло за секунду до этого с грудной клеткой молодой женщины, тесно связано с законами ломкости и упругости, действия и противодействия. Без знания этих законов оно вообще непонятно. Тут придется прибегнуть к следующим формулам:
Первый закон Ньютона гласит: Каждое тело пребывает в состоянии покоя до тех пор, пока действие какой-либо силы не заставит его изменить свое состояние (это относится к ребрам Иды). Второй закон Ньютона о движении гласит: Изменение движения пропорционально действующей силе и имеет одинаковое с ней направление[263] (действующая сила – Франц, вернее – его рука и кулак с содержимым). Величина силы выражается следующей формулой:

Вызванное силою ускорение, то есть степень вызванного ею нарушения покоя, выражается формулой:

Согласно этому, следует ожидать, да оно так и было в действительности: спираль мутовки сжалась и удар был нанесен непосредственно деревянной рукояткой. А на другой стороне, так называемой инертной или противодействующей, получилось: перелом 7-го и 8-го ребер по задней левой подмышечной линии.
При таком соответствующем духу времени рассмотрении всех этих обстоятельств можно прекрасно обойтись без эриний. Можно шаг за шагом проследить, что сделал Франц и что претерпела Ида. В этом уравнении нет неизвестного. Остается только перечислить стадии начатого таким образом процесса: потеря со стороны Иды вертикального положения и переход ее в горизонтальное как следствие сильного толчка и одновременно затруднение дыхания, сильная боль, испуг и физиологическое нарушение равновесия. И тем не менее Франц убил бы, как разъяренный лев[264], эту столь близко знакомую ему порочную особу, если бы из соседней комнаты не примчалась ее сестра. Перед визгливой бранью этой бабы он немедленно ретировался, а вечером его уже сцапали неподалеку от его квартиры во время полицейского обхода района.
«Хой-хо-хой!»[265] – кричали древние эринии. О ужас, ужас, что за вид – проклятый Богом человек у алтаря, с обагренными кровью руками[266]. Как эти чудища хрипят: Ты спишь? Прочь сон, прочь забытье! Вставай, вставай! Его отец, Агамемнон, много лет тому назад отправился походом на Трою. Пала Троя, и запылали оттуда сигнальные огни[267], от горы Иды через Афон зажглись смолистые факелы до самого Киферского леса[268].
Как прекрасно, к слову сказать, это огненное донесение из Трои в Грецию! Какое величие – это шествие огня через море; это – свет, сердце, душа, счастье, экстаз![269]
Вот вспыхивает темно-багровое пламя и заревом разливается над озером Горгопис[270], его увидел страж и кричит и радуется, вот это жизнь, и вспыхивает следующий костер, и передаются дальше радостная весть и возбуждение и ликование, все вместе, единым взлетом через залив, в стремительном беге к вершине Арахнейона[271], и, накалившись докрасна, все сливается в неистовых кликах: Агамемнон возвращается![272] Что ж, с такой постановкой мы тягаться не в силах. Тут нам приходится спасовать.
Мы пользуемся для передачи донесений кой-какими результатами опытов Генриха Герца[273], который жил в Карлсруэ, рано умер и, по крайней мере на фотографии в Мюнхенском музее графики, носил окладистую бороду. Мы посылаем радиограммы. Мы получаем на больших станциях переменные токи высокой частоты. При помощи колебательного контура мы вызываем электрические волны. Колебания распространяются сферически. А затем там есть еще катодная лампа и микрофон, мембрана которого колеблется то чаще, то реже, и таким образом получается звук точь-в-точь такой, какой поступил перед тем в аппарат[274], это поразительно, утонченно, каверзно. Восхищаться этим едва ли возможно; эта штука действует – вот и все!
То ли дело сигнализирующий смоляной факел при возвращении Агамемнона.
Он горит, он пылает, в каждое мгновенье, в каждом месте он чувствует, он возвещает: Агамемнон возвращается! – и все вокруг ликует. Тысячи людей воспламеняются в каждом месте: Агамемнон возвращается! И вот их уже десять тысяч, а по ту сторону залива – сто тысяч.
Однако вернемся к сути дела. Агамемнон у себя дома[275]. Но тут получается уж что-то совсем иное. Клитемнестра, заполучив мужа обратно, предлагает ему выкупаться. В ту же минуту обнаруживается, что она – невероятная дрянь. Она набрасывает на него в воде рыбачью сеть, так что он не в состоянии пошевельнуться, а в руках у нее топор, который она захватила с собой будто для того, чтоб наколоть дров. Муж хрипит: «Горе мне, я погиб!»[276] Люди спрашивают: «Кто это там себя оплакивает?»[277] А он: «Горе мне, горе мне!» Но античная женщина-зверь убивает его, не дрогнув бровью, а потом еще и похваляется: «Покончила я с ним; рыбачьей сетью опутала его я и дважды нанесла удары. Когда ж, вздохнув два раза, вытянулся он, последним, третьим я ударом отправила его в Гадес»[278]. Старейшины огорчены, но все же находят подходящий для данного случая ответ: «Восхищены мы смелостью твоих речей»[279]. Так вот какова была та античная женщина-зверь, которая, вследствие супружеских утех с Агамемноном, родила мальчика, нареченного при появлении на свет Орестом. Впоследствии она была убита этим плодом вышеупомянутых утех, а убийцу терзают за это эринии.
Совершенно иначе обстоит дело с Францем Биберкопфом. Не прошло и пяти недель, как его Ида умерла в Фридрихсхайнской больнице от сложного перелома ребер с повреждением плевры и легкого и последовавших затем эмпиемы плевры[280] и воспаления легкого, боже мой, температура не понижается, Ида, на кого ты похожа, поглядись в зеркало, боже мой, ей приходит конец, каюк, крышка. Ну, произвели вскрытие, а затем зарыли ее в землю на Ландсбергераллее[281], на три метра вглубь. Умерла она с ненавистью к Францу, а его неистовая злоба к ней не укротилась даже и после ее смерти, потому что ее новый друг, бреславлец, навещал ее в больнице. Теперь она лежит под землею[282] уже пять лет, вытянувшись на спине, и доски гроба уже прогнили, а сама она растекается жижею, она, которая когда-то танцевала с Францем в кафе «Парадиз», в Трептове, в белых парусиновых туфельках, она, которая так много любила и болтала, теперь она лежит, не шелохнется, просто – ее больше нет.
А он отсидел свои четыре года. Тот, кто убил ее, гуляет на свободе, живет себе, процветает, жрет, пьет, извергает семя, распространяет новую жизнь. Даже сестра Иды не избежала его. Конечно, когда-нибудь и ему придется расстаться с жизнью. Все умрем, все там будем. Но ему до этого еще далеко. Об этом он знает. И что пока он будет продолжать закусывать в пивных и на свой манер воздавать хвалу раскинувшемуся над Александрплац небу: С каких это пор бабушка твоя играет на тромбоне[283], или: Мой попугай не любит яйца всмятку[284].
А где теперь красная ограда тегельской тюрьмы, так пугавшая его, он еще никак не мог оторваться от нее? Привратник стоит у черных железных ворот, вызывавших когда-то у Франца такое отвращение, ворота по-прежнему на своих петлях, никому не мешают, по вечерам их запирают, как это делают со всякими порядочными воротами. Сейчас до обеда перед ними стоит, покуривая трубку, привратник. Светит солнце, все то же самое солнце, о котором можно в точности предсказать, когда оно будет находиться в той или иной точке. Покажется ли оно вообще – зависит от облачности. Из трамвая № 41 как раз выходят несколько человек с цветами и маленькими пакетиками в руках, вероятно, направляются в санаторий, который виднеется вон там, прямо и налево по шоссе; люди, по-видимому, сильно зябнут. Деревья стоят черным рядом. А в тюрьме все еще сидят в камерах арестанты, работают в мастерских, прогуливаются гуськом по двору. Строгое предписание: выходить в часы отдыха не иначе как в котах[285], шапке и шейном платке. Обход камер начальником: «Каков был вчера ужин?» – «Мог бы быть лучше, а порции больше!» Но об этом он не хочет слышать, представляется глухим. «Как часто сменяют постельное белье?» Будто он и сам не знает.
Кто-то из одиночников пишет: «Впустите сюда солнце. Это – лозунг, раздающийся ныне во всем мире. И только здесь, за стенами темницы, не нашел он еще отклика. Неужели же мы не стоим того, чтобы нам светило солнце? Система расположения тюремных зданий такова, что стороны некоторых флигелей круглый год не освещаются солнцем, северо-восточные стороны флигелей. В эти камеры не попадает ни одного луча, который передал бы их обитателям привет из внешнего мира. Из года в год эти люди должны работать и хиреть без живительного солнечного света»[286]. Тюрьму собирается осматривать какая-то комиссия. Надзиратели бегают из камеры в камеру.
Другой пишет: «В прокуратуру при ландгерихте. Во время слушания моего дела в уголовном отделении ландгерихта председательствовавший в заседании господин председатель ландгерихта сообщил мне, что после моего ареста какой-то неизвестный приходил ко мне на квартиру, Элизабетштрассе, 76, за моими вещами и таковые унес с собою. Это обстоятельство установлено данными дела. Ввиду же того, что это установлено данными дела, должно было быть произведено по требованию полиции или прокуратуры соответствующее расследование. Мне ни с какой стороны ничего не сообщалось о похищении моих вещей после моего ареста, пока я не узнал об этом в день слушания моего дела. Ввиду изложенного прошу господина прокурора уведомить меня о результатах расследования или же выдать мне на руки копию имеющегося в деле протокола на предмет предъявления иска о возмещении убытков, если со стороны моей квартирной хозяйки была допущена небрежность»[287].
Что же касается фрау Минны, сестры Иды, то ей живется неплохо, благодарю вас, вы очень любезны. Сейчас 11 часов 20 минут, она как раз возвращается с рынка на Аккерштрассе, – это большое желтое городское здание, имеющее выход и на Инвалиденштрассе. Но она предпочитает выход на Аккерштрассе, потому что тут ей немножко ближе к дому. Она купила свиную голову, цветной капусты и немного сельдерея. Перед рынком она покупает с воза еще большую жирную камбалу, а также пакетик ромашки; потому что – почем знать? – ромашка всегда может пригодиться[288].
Книга третья
Здесь Франц Биберкопф, этот порядочный, благонамеренный человек, переживает первое потрясение. Его обманывают. Удар нанесен метко…
Биберкопф поклялся, что хочет остаться порядочным человеком, и вы видели, как он целыми неделями действительно остается им, но это до некоторой степени лишь отсрочка. Жизнь находит это, в конце концов, слишком деликатным и коварно подставляет Францу ножку. А ему, нашему Францу Биберкопфу, такой поступок кажется со стороны жизни не особенно корректным, и в течение изрядного времени ему претит такое гнусное, собачье, противоречащее всем добрым намерениям существование.
Почему жизнь поступает с ним таким образом, он никак не может понять. Ему предстоит пройти еще долгий путь, пока он это поймет.
Вчера еще на гордых конях[289]
Так как приближается Рождество, Франц меняет свое амплуа, теперь он торгует разным случайным товаром, несколько часов утром или после обеда специализируется по части шнурков для ботинок, сперва один, а потом в компании с Отто Людерсом. Этот Людерс уже два года как безработный, жена его прачка. Познакомила Франца с ним Лина-толстуха, он приходится ей дядей. Летом он ходил две недели в качестве сандвича для Рюдерсдорфских мятных лепешек[290], с султаном на голове и в ливрее. Франц и Людерс бегают по улицам, заходят в дома, звонят в квартиры, а потом где-нибудь встречаются.
Как-то раз Франц Биберкопф приходит в пивную. Толстуха уже там. Он в особенно хорошем настроении. Жадно поедает толстухины бутерброды и, еще прожевывая их, заказывает для всех троих свиные уши с горошком. Толстуху он тискает так, что она после свиных ушей отчаливает, вся красная от стыда. «Вот хорошо, что толстуха-то убралась, Отто». – «Что ж, ей есть куда. Не все же ей таскаться за тобою».
Франц облокачивается на стол и глядит на Людерса как-то снизу вверх. «Ну а как ты думаешь, Отто? Что случилось?» – «А что?» – «Угадай». – «Да что? Говори уж».
Два бокала светлого, один лимон. В пивную, отдуваясь, вваливается новый посетитель, вытирает тыльной стороной руки нос, кашляет. «Чашку кофе». – «С сахаром?» – спрашивает хозяйка, перемывая стаканы. «Нет. Но поживее».
По пивной проходит молодой человек в коричневой кепке[291], ищет кого-то глазами, греется подле буржуйки, ищет и за Францевым столиком, а затем спрашивает рядом: «Не видели ли вы тут одного человечка в черном пальто с коричневым меховым воротником?» – «А что, он часто бывает здесь?» – «Да». За столиком тот, который постарше, оборачивается к своему бледному соседу. «С коричневым меховым воротником?» – «Много их тут ходит с такими воротниками», – ворчливо отзывается тот. «А вы сами откуда? Кто вас послал?» – спрашивает седой молодого человека. «Да не все ли вам равно? Раз вы его не видали». – «Потому что здесь много бывает народу с коричневыми меховыми воротниками. Надо же знать, кто вас посылает». – «С какой стати я буду рассказывать вам о своих делах?» – «Но если вы его спрашиваете, – волнуется бледный, – был ли тут такой-то человек, то может же он вас тоже спросить, кто вас сюда прислал?»
Молодой человек стоит уже у другого столика. «Хотя я его и спрашиваю, – говорит он, – вовсе не его это дело, кто я такой». – «Позвольте, раз вы его спрашиваете, то и он может вас спросить. А не то вам нечего и спрашивать». – «Да с какой же стати я буду говорить ему, какие у меня дела?» – «В таком случае ему нечего говорить вам, был ли тут такой человек».
Молодой человек идет к двери, оборачивается: «Если уж вы такой хитрый, то и оставайтесь таким». Распахивает дверь, исчезает.
Те двое за столиком: «Ты его знаешь? Дело в том, что я его не знаю». – «Его никогда здесь не бывало. Черт его знает, что ему нужно». – «Он, по-видимому, баварец». – «Он? Нет, он с Рейна. Из Рейнской области».
А Франц весело скалит зубы, улыбается иззябшему, жалкому Людерсу: «Эх ты, не можешь догадаться. Ну, спроси же, есть ли у меня деньги». – «А что, есть?»
Сжатая в кулак рука Франца уж на столе. Он слегка приоткрывает кулак и гордо ухмыляется: «Ну-ка, сколько тут?» Людерс, этот жалкий человечек, весь подавшись вперед, посасывает дуплистый зуб: «Две десятки? Черт!» Франц бросает бумажки на столик. «Что, здорово? Это мы, брат, сварганили в пятнадцать – двадцать минут. Не дольше, пари?» – «Послушай, ты уж не». – «Да нет же, нет, с чего ты взял? Нет, под столом да с заднего хода у нас дела не делаются. Всё – на честность, Отто, начистоту, по-хорошему, понимаешь».
Тут они начинают шептаться, Отто Людерс придвигается к Францу вплотную. Оказывается, Франц позвонил к какой-то особе – шнурки для ботинок не понадобятся ли, для себя, для супруга, для деток? Она посмотрела шнурки, потом на него посмотрела, поговорили в коридоре, она вдова, еще хорошо сохранившаяся, он ее спросил, нельзя ли чашечку кофе, потому что нынче такая стужа на дворе. Выпили кофе, вместе. – Ну а потом – еще кой-что было. Франц дует себе в кулак, смеется в нос, почесывает щеку, подталкивает Отто коленом: «Я у нее даже весь мой хлам оставил. А она разве что заметила?» – «Кто?» – «Как – кто? Толстуха, конечно, потому что при мне никакого товара не было». – «А пускай замечает, продал все, и дело с концом, где же это было?»
Франц свистит: «Туда, – говорит, – я еще раз схожу, да только не так скоро. Это на Эльзассерштрассе, вдова она. Понимаешь, братец, двадцать марок, это ж хорошее дело». Они едят и выпивают до трех часов, Отто получает пятерку, но не становится от этого веселее.
Кто это крадется на следующее утро со шнурками для ботинок недалеко от Розентальских ворот? Отто Людерс. Он ждет на углу у Фабиша, пока не видит, что Франц удаляется по Брунненштрассе. Тогда он – шмыг вниз по Эльзассерштрассе. А вот и тот самый номер дома. Может быть, Франц уж там, у нее? И как это люди могут так спокойно ходить по улице? Надо будет постоять немного в подъезде. Если появится Франц, надо будет сказать, да что же такое сказать? Как сердце-то бьется. Еще бы, раздражают человека целый день, заработка нет, врач не находит никакой болезни, а наверняка что-нибудь есть. А эти отрепья – хоть помирай, все та же старая одежонка, с военной службы. Ну, теперь наверх.
Он звонит: «Не нужно ли, мадам, шнурков для ботинок? Да нет, я хотел только спросить. Скажите… Да вы послушайте…» Та хочет закрыть дверь, но он просунул ногу, не пускает. «Дело в том, что я пришел не от себя, а мой приятель, вы уж знаете, который был здесь вчера, оставил у вас свой товар». – «О боже!» Она открывает дверь. Людерс входит и быстро запирает за собою. «В чем же дело? О господи!» – «Ничего, ничего, мадам. Чего вы так дрожите?» Он и сам дрожит, он так внезапно попал сюда, а теперь дела не остановишь, будь что будет, ничего, все образуется. Ему бы следовало быть теперь поласковее, да нет голоса, перед ртом, под носом появилась как будто проволочная сетка и тянется по скулам к самому лбу, если онемеют скулы, пропал человек. «Мне велено только взять товар». Дамочка бежит в комнату, хочет принести пакет, а Людерс уже и сам на пороге. Она, захлебываясь, говорит: «Вот ваш пакет. Господи, господи…» – «Благодарю вас, покорнейше благодарю. Но почему же вы так дрожите, мадам? Здесь же так тепло. Так тепло. А не дадите ли вы и мне чашечку кофе?» Только бы устоять, говорить без умолку и ни за что не уходить, выдержать до конца.
Дамочка худенькая, субтильная, стоит перед ним, стиснув руки: «Он вам еще что-нибудь говорил? Что он вам говорил?» – «Кто? Мой приятель?» Говорить, говорить не переставая, чем больше говоришь, тем больше согреваешься, и сетка щекочет теперь уж только самый кончик носа. «Да больше он ничего не говорил. Чего ж ему еще говорить, про кофе, что ли? А товар – товар я уже получил». – «Я только загляну в кухню». Это она со страху, на что мне ее кофе, кофе я и сам себе сварю, даже еще лучше, а в трактире подадут готовый, это она просто хочет улизнуть, погоди, мы тоже еще тут. Хорошо, что мы в квартиру вошли, быстро устроилось. Но все же Людерсу страшно, он прислушивается, выглядывает за дверь, на лестницу, наверх. Возвращается в комнату. Плохо выспался сегодня, ребенок все кашлял, всю ночь напролет, ну, посидим, что ли? И он садится на красный бархатный диван.