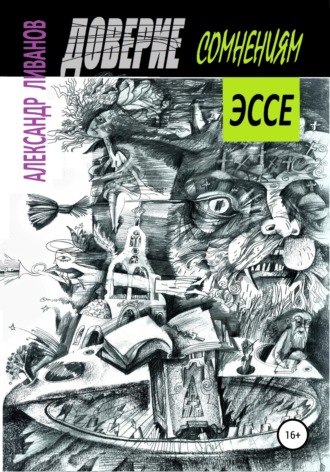
Полная версия
Доверие сомнениям
«Эх, день рождения дочки…» – только и проговорила женщина и растерянно посмотрела вокруг. Досада ее, по-видимому, касалась все же больше лужи в таком неудобном месте, как книжный магазин…
Молодого человека между тем – как ветром сдуло!.. Его уже и в магазине не было. И когда он только успел добраться до дверей и улизнуть!
– Мало что пошляк – еще и трус! – громко, но без тени мстительности в голосе, сказал кто-то рядом со мной. Я обернулся – увидел спокойно проходящего «квадратного» крепыша в нейлоновой куртке и венгерском берете.
Конечно, это он сказал. Я все видел по выражению его лица. Да, да, уверен, что в тот миг у лица было выражение в полном соответствии со сказанными словами! А ведь как сказал!.. Словно приговор прочитал. Не нуждаясь ни в чьем-то согласии, ни в чьей-то поддержке. Уверенный – сказал, что должно…
Долги
Наташа два раза позвонила, потом два раза постучала. И еще раз так – два звонка, два стука. При этом она не забыла и о ритме их условленного сигнала – он особо настаивал на этом ритме и даже сам показал, что и как ей нужно проделать у закрытой двери, чтоб он знал, что именно она пришла, а не случайно совпали звонки и стуки…
Наташа приникла ухом к двери, готовясь услышать, как на той стороне что-то зашебуршится – надевает тапочки, потом донесется шарканье этих тапочек, еще какие-то звуки, знак, что он услышал, идет открыть ей дверь. Последними будут щелчок задвижки, звяканье цепочки – и он предстанет на пороге в своем длинном свитере до колен, взлохмаченный, неухоженный, либо выпимши, либо заспанный…
Но, нет – ничего там на той стороне не слышно. Как же так? Сам ведь звонил, как всегда… Ему понадобилось срочно куда-то уехать – мог бы предупредить. Ведь она пропускает занятия, да и впустую семь верст киселя хлебать. Да и обидно ей, ведь хочется побыть вместе… Может, еще раз звонил он, чтоб предупредить – но она уже была в пути сюда?.. Вызвали на работу – что-нибудь неожиданное?
Наташа услышала шаги – нет, это позади нее. Соседку некстати несет? Она направилась к лифту, но женщина не прошла мимо. Остановилась, как-то опечаленно и с укоризной глядя на Наташу.
– Та-ак, – показав подбородком на кнопку звонка, протянула она, как бы сама с собой разговаривая. – Та-ак… Теперь я знаю его новый код… Он его меняет для каждой женщины… Но, видать, и твой устарел… Зря там, в уголке коридора, ждала и наблюдала – засаду устроила. Знала, придет… Ты совсем молодая – что ж ему надо, почему и тебе не открывает?.. Новую ждет!
– Как вы такая? И о чем вы говорите? – с дрожью в голосе спросила Наташа, вспыхнув лицом и разволновавшись. Женщина не спешила с ответом. Молча и с той же опечаленной укоризной смотрела на Наташу, изучала ее, главным образом то, во что Наташа была одета. Сама она была в телогрейке, в валенках и галошах – то ли дворник, то ли техник-смотритель. Какая-никакая – власть. Наташа всегда робела перед всем, что сколь-нибудь напоминало начальство, официальность, власть. Заранее почему-то волновалась, чувствуя себя неуверенно и даже виноватой, сама не зная в чем. Чисто школьный комплекс, затянулся на всю жизнь: «а вдруг вызовут к доске? А вдруг двойка?..». Она все еще была той школьницей среди мира взрослых. Не умела она разговаривать с людьми, которые в ней все еще удерживали это чувство невзрослости. Ее кидало в жар от каждого вызова в деканат, от самого простого разговора с секретаршей деканата. А когда она получала паспорт – до сих пор помнит – то у нее сделались влажные ладони уже перед входом в здание милиции. Щеки ее запылали, сердце зачастило, и лихорадочно блестели глаза. Глянув на нее, и начальник паспортного стола, молодой милицейский майор, тоже пришел в смущение, долго макал и отряхивал тушь с пера, чтоб она, не дай бог, не посадила кляксу, расписываясь в новом паспорте…
– Спрашиваешь – кто я такая?.. Да такая же я, как ты… Он, видать, уже и тебя бросил ради другой… Когда ты с ним последний раз была?.. Или, когда последний раз позвонил?..
– Вчера вечером только… – ответила Наташа, удивляясь, почему она посвящает в подробности незнакомую женщину. Как она ненавидит в себе это малодушие! Но ведь вот же – женщина с нею разговаривает так, словно и вправду чувствует Наташу невзрослой, или даже подчиненной. Так спокойно и независимо разговаривает – и ничуть не опасается появления соседей. «А я?.. Застенчивая я? Или трусиха?..».
И вдруг Наташа догадалась, что означают слова – «такая же как ты». Неужели что-то у него могло быть с этой? Ужас! И что же – все мужчины такие? И все им безразлично?.. Наташа искоса и оценивающе глянула на ту, которую приняла за дворничиху или смотрительницу… Впрочем, наверно, так оно и есть. Но по правде говоря – лицо у нее довольно миловидное. И сложена, видать, неплохо, даже телогрейка не может это скрыть. Полновата, но он любит таких. Наташа сама – бочонком. Может, этим и понравилась ему… А ведь так и не сказал – что любит… Неужели все это и есть – любовь, из-за которой испокон веков люди беснуются!.. И ни один мудрец толком ничего не объяснил…
– Только вчера, говоришь? И что же? Вчера у него – не сегодня… Значит, два на два. Два звонка и два стука. У меня было два звонка – и один стук… И сколько же он у тебя хапнул?..
– Что вы такое говорите! Денег хапнул? У меня? Я ведь студентка! Сама у него иной раз десятку попрошу…
– Понятно. У одних взымал, другим давал… То ли мы платим, то ли нам платят… Кто любит, кто тешится, кто издевается. А то и шабашка… Кот он, таких стрелять надо!..
Наташа не успела объяснить, как ее следует понимать – она в долг брала, со стипендии вернет. Не сразу пусть, частями… Хлопнула дверь лифта, звякнула, зашипела – вышла женщина в мягком кожаном пальто, которое распирала ее плотная и крепкая стать. В строгости взгляда и решительности тона сразу явил себя тот тип характера, который бывает у женщин, чем-то руководящих, ведающих, привыкших распоряжаться. На лице ее было презрительное раздражение человеческой бестолковостью, занудством, несерьезностью. С чувством раз и навсегда осознанного превосходства – видать, не привыкла церемониться с людьми – она, сощурясь, зло мазнула глазами Наташу и женщину в телогрейке. Дескать – так и знала, так и ждала, что застану вас здесь! Она шлепнула себя по крутому бедру красивыми перчатками – точно была и наездником, и лошадкой. Голос ее оказался громким, сипловатым, видать, прокуренным… Недобрая складка бровей и сиплый голос ее немного старили.
– Живая очередь!.. Это же сколько у него за день перебывает, если вот мы столкнулись втроем!.. Не-эт, он какой-то маньяк! Патология! – хохотнула она, помахивая красивыми, оранжевыми, перчатками! – Закон больших рядов!.. Держу пари – он и у вас брал деньги, и вас бросил, и вот вы пришли за деньгами!.. Не знаю, как вы, я свое из глотки выдеру!..
– И у вас тоже брал? – спросила «телогрейка», в чем-то усомнившись, став ближе к Наташе, точно перед лицом общего врага.
– Ну, он это делает аккуратно, интеллигентно, так сказать… Двести пятьдесят рублей – это почти моя месячная ставка! Что же я – миллионерша, чтоб швыряться такими деньгами? Не-эт, я ему покажу, сутенеру… А еще мне мозги пудрил: Феофан Грек и Даниил Турок!..
Наташа вдруг почувствовала, что ее оставила робость – это с нею случалось всегда, когда переволнуется или придет отчаянье. Она перебила «кожаное пальто».
– Вас зовут Ирина Николаевна? Или там Ирма Никодимовна… В общем, вы – «иэн»? Ваша сумма у него записана фломастером возле выключателя туалета!.. Прямо на обоях… А вы – «катэ»? Двадцать восемь рублей? – обратилась Наташа к «телогрейке». «Нет, я Людмила Дмитриевна… Сорок рублей!.. И еще апельсины два раза, когда грипповал… Да ладно уж»… Наташа страдальчески поморщилась от этих апельсинов – будто сама их испробовала, а они оказались не сладкими, а уксусно-кислыми… «Элдэ» – есть и такая там надпись! Наташа умозрительно скользнула глазами вниз по столбику из инициалов, сумм и телефонов. По размеру суммы – где-то ближе к концу. Сверху записаны крупные суммы. Ну да, есть там и «элдэ», и сорок рублей есть…
– Как видите, записывает… Стало быть, вернет! Не брал он… За это… Врете вы все! Вы ему сами совали свои деньги!..
– А это уже неважно… Между своими считалось… Да и в деньгах ли счастье? Разве я пришла бы, если б не пропал… Ни звонка, дверь не открывает, а в глазок – свет видать. И голоса сразу замирают. И его, и женский… Живет в свое удовольствие, а я дура… Теперь я твой, милая, код запомнила. Нагряну, как снег на голову – посмотрю, как он завертится… Все они интеллигенты такие! Коты – и коды́…
– Скажите-ка мне его последний код! – обернулась «кожаная» к «телогрейке». – У меня был один звонок – два стука!
«Телогрейка» замялась, «кожаная» хищно и нетерпеливо склонилась к ней, мигом достав из сумки пузатенький блокнот и «шарик» змейкой.
– Сегодня же код сменим! – мстительно возгласила Наташа. – И не ходите больше сюда! Я, я – его невеста! Понимаете – не-вес-та!
Наташу удивило и слово это, и то что оно пришло ей на ум. Скажет он кому-нибудь в жизни такое слово? Даже смешно об этом подумать… «Невеста» от «невинность», «не ведать»? Нет, она хочет «ведать»!
– Я сама прослежу, чтоб он вам вернул ваши деньги, которые вы ему… Он кончает подряд по ремонту церкви!.. Там вам нет ни авансов, ни окладов. Работу кончил – деньги на бочку… А будете ходить – ни шиша не получите! Вы платили ему, а это он думал, что долг! Он лучше вас… Так что пока не позвала соседей – проваливайте, и чтоб я вас долго искала! Забудьте сюда дорогу!..
«Телогрейка» перебирала валенками, потопталась в нерешительности на месте. «Кожаная» уставилась на нее – только сейчас ее рассмотрела – и ухмыльнулась в воротник. Потом зыркнула на Наташу. «Ну невеста… от которой прокисает тесто… Я не привыкла, чтоб меня бросали! Я сама бросаю. А он бьет сороку и ворону! Смотри, чтоб деньги были к новому году! Может, сама замуж выйду!».
Она первая вошла в лифт, «телогрейка» нерешительно поплелась за нею. Затем внизу грохнула и смолкла подпружиненная входная дверь.
Наташа, забыв о соседях, обессиленно опустилась на ступени и заплакала.
Роль
Когда я смотрю на старинные зеркала, в залах музеев или в передних московских квартир, мне всегда жаль, что они лишены способности вдруг вспомнить, воспроизвести, отразить лица, некогда глядевшиеся в них. Ну, пусть хотя бы избирательно, на свой вкус, по собственной, пусть прихоти!.. Никого и ничего. Как, куда, зачем все-все исчезает? Страшная, если подумать, бездна! Ни мольбами, ни пытками – не вырвешь, не вернешь, их тайны. И разве утешает здесь объяснения физики?.. Душа им не внемлет, не согласна с ними, не смиряется на них! Зеркало, мол, оптический обман: отражение… В этом обмане есть, мол, и вторая степень обмана: мнимое отражение… А главный обман – то, с чем мы говорим, это физику не занимает. Тут она высокомерничает и третирует наши заботы: «лирика»!.. А она, душа, не согласна с физикой. Где вы, лица красавиц и щеголей, чопорных старух и «жадной младости»?
Столько увидеть и молчать обо всем, ужасающее равнодушие предметного мира! Неужели никогда не будет найден способ заставить его заговорить, отдать нам свои воспоминания? Не может быть, чтоб такой способ не был найден. И разве наше воображение уже не прорвалось к его преддверию?.. Физика еще позовет на помощь лирику! И здесь, и в другом – позовет! Ноосферам нужна не только логика – но и образность!
Немые свидетели увиденного, услышанного, сопричастного… Вот и Лавка писателей. До открытия еще тут всегда толпится народ – толпится, роится, и вместе с тем это – очередь, пусть не в «шнурочек», вдоль стеночки, а все же – очередь, каждый знает кто за кем, откроется дверь так и последуют, блюдя порядок. Лавка писателей – скольких и сколько она видела и слышала!.. Вот и голоса – подобно лицам, – куда все девается, куда они уходят слова, мысли, разговоры? Почему бы им не зазвучать вдруг, не воскреснуть, ну, пусть не всем, пусть по такой же прихотливой хотя бы избирательности, отсеяв все житейское, из злобы дня, оставив лишь то, что адресовано вечности? Почему бы?.. Или и вправду живет все, хранится в ноосфере? Ау! Откликнись!..
Но чего требовать от стен, от камня и штукатурки, от хилой лестницы с подъеденными шашелем балясинами, когда мы сами хороши, невнимательны, не умеем слушать, суетно заняты собой, своей одной лишь особой? Сердца закрыты наглухо, память забита мелко-будничным…
Да, надо уметь слушать! Не все, не все – обязательно избирательно, писательское. Трудно, а надо. Иные именно заданно выходят здесь из «формы», расслабляют «мышцы», дышат будничностью и отдают дань общечеловеческому. Говорят о погоде, о пенсии, об уме своей собаки, о тупости редактора, о чем, о чем только не говорят!..
Я медленно поворачиваю голову, точно радар, ловлю звуки, те, что мне интересны, звуки, слова, мысли, те, что уцелели от бумаги, которые могли бы быть написанными, может, еще напишутся.
Стоп! Слышу, как будто нечто писательское! Не просто житейское – литературно-житейское!..
– И только потому, что он говорил с вами раздраженно, ругался-чертыхался – вы и считаете, что он был заносчив, высокомерен, что он – гордец? А вы второй раз придете, батенька! Увидите въявь, что такое совесть… Удивите, почему-то верю и рукописи ход даст, и, может, даже в план включит!
– Он даже на «ты» со мной разговаривал!..
– Вот-вот, даже на «ты»!.. И прекрасно, что на «ты»! Живой человек! Не видали, стало быть, вы настоящего гордеца, не понимаете настоящего высокомерия!.. Разве оно когда-нибудь станет ругаться? Высокомерие – себя, батенька, высоко меряет! Стало быть, всех остальных нулишками почитает! Оно не опустится до ругани, и вас до себя не допустит, ни под каким видом! Даже той же руганью! Оно – недосягаемо! Так себя поставило. Это мнимое достоинство, мнимая высь, самооценочное достоинство, точно мышь на горе!.. Пойди достань его… Всегда холодное, всегда вежливое, слово как золото из кошелька, достает! Не ходит – носит себя. Даже ручку сунет – но с таким же озабоченно-отсутствующим видом, с такой же фигурой занятости нечто более важным, чуть ли ни общественным, да что там, государственным, хоть на деле всегда занято лишь собой, лишь своей персоной, лишь своей выгодой!.. Вот и разговаривает с вами, как тот вельможа у Гоголя с бедным капитаном Копейкиным… И вам же тоже – вместо семги и арбуза, вместо трюфелей и стройной англичанки-лебедем – одно блюдо: «завтра»! Ну, в нынешнем измерении: «в тринадцатой пятилетке»! Артисты на одну ничтожную рольку – на всю жизнь! То есть – руководителя! Ролька мизерная, а живет ею лучше народного! Знает, не остановите, не заговорите, вы и дела ваши разве чета ему? Вы об этом догадываетесь? Нет, что ж, он играет свою рольку – он заставит себя уважать! Мы терпим, вот он и играет нами, как детьми, так, будто возвышен природой над всеми, это его форма, которую будто бы требуют его дела!.. А по сути – одна форма, взгляд его будто бы простирается далеко, за пределы добра и зла, куда-то в вечность, а в действительности, заверяю вас, он не дальше ушел от собственного пищеварения… Но он не скажет, нет, не скажет – «А осетринка была с душком!» – он ведь никогда не выходит из своей рольки!
– То есть, уже не просто гордец…
– В том-то и дело, что не просто! Целый законченный бюрократ!.. Этому-то осетринку с душком не подсунут. И денежки не возьмут: честь окажите, откушайте! Этот эгоист умеет эксплуатировать коллективные формы жизни. Свою форму создал, все уже думают – иначе нельзя: так надо! А вы говорите о своем: ругался. И прекрасно! Не обрел ролишку, не вошел в нее, противно человеку: душа живая. Трудно ему без ролишки, вот и срывается. Это и обнадеживает! Пойдите, пойдите еще раз – увидите, не все потеряно!..
Орбиты
Они были друзьями, затем друзьями-врагами, друзьями-соперниками, затем на долгие годы разошлись, чтоб уж окончательно снова подружиться, но уже в совершенно новом качестве, как два творческих человека…
Словно все эти годы топтались на одной колее, мешая друг другу, и вот наконец, каждый пошел своим путем, своим единственным, который другому не может принадлежать, не нужен, настолько захватывающ свой путь, цель где-то в бесконечной конечности его!.. Все свое – и цель, и поступь, и дыханье. И трудно, и отступиться невозможно: идешь…
Они учились в одном институте, сидели за одной партой, делились как хлебом, самыми сокровенными помыслами о том, о чем писали, о чем хотелось написать. Если одного хвалили на глазах другого, этот другой мрачнел, становился замкнутым, рассеянным, точно с ним случилась беда. И вовсе это не было завистью!.. Все было бы просто и понятно, пусть и она непроста, природа человеческой зависти, пусть она и порок из числа смертных пороков – и все же это было бы понятно. Нет, и еще раз нет, никаких «сальеривских комплексов». Просто в похвале другу почему-то сразу очевидной становилась собственная бездарность!.. И все только так измерялось – соизмерялось этой дружбой-враждой, в которой как никак была ведь и доброжелательность к удачам друга!.. Да они просто постеснялись бы быть завистниками – ведь были они людьми другой эпохи, другого воспитания и исторического, если угодно, опыта. И не кем-нибудь, Пушкиным были они вразумлены уже в самой неэстетичности «сальеривских комплексов»! Или там Толстых и Тонких…
И без конца они примеряли друг к другу свои успехи и неудачи, и без конца решали, так и не решив до конца, «талантлив я – или нет?», «Кто из нас талантливей – я или он?».
Друг без друга они не чувствовали, не сознавали себя… Точно два деревца на одном корне.
Что же случилось после того, как прошли годы разлуки?.. Что заставило их опять вспомнить былую дружбу, или, вернее, дружбу-вражду, наконец, снова подружиться, уже, ясно, навсегда?.. То, что книги и одного и другого стали появляться на прилавках? То, что оба были уже «в четвертой четверти» той умозрительной, среднеарифметической, полосе жизни, о которой все же страшновато и самому себе сказать: «старость»!.. То вершина, с которой лететь в тартарары, то ли пропасть, дно ее?
Думается, главным была тут художническая зрелость. Они теперь не только не примерялись друг к другу, определяя талант, кто талантливей – они вовсе теперь ни к кому не приравнивались, не думали об этом пресловутом «таланте»!.. Даже слово – самое частотное в их юности – вдруг начисто исчезло из их обихода. Теперь говорилось другое – простое и очень непростое слово – «работа»… И каждый уже мерял себя самим собой, своим сделанным, своим пройденным, своим путем впереди. Каждый обрел себя и уже ни на миг не мог бы стать не самим собой! И все же не было это эгоизмом. Из зерна художника выросла личность художника – и все теперь определялось ею, ее системой ценностей.
…В космическом пространстве, пересекая множество орбит мирового звездоворота, лишенная своей орбиты, носится пылинка, которой суждено стать светилом. Но лишь ощутив свой вес и объем, лишь обретя себя в мировом пространстве, такая космическая пылинка ощутит свою орбиту, выходит на нее, становясь: звездой… И кто знает – не таково ли призвание каждого творческого человека: обрести в себе, в своей личности, звезду: со своей орбитой, со своими единственными позывными, спектром, волновыми частотами: «параметрами»?..
И не так ли творчество одолевает, между прочим, и земную злобу, и тесноту земных путей, обретая пространство? Не так ли следует понимать слова Есенина, что человек лишь мера космических обособленностей?..
И да светится и Твоя Звезда!
Чувство времени
«Новые времена – новые песни», – говорит народ. Не новые машины и вещи, не новые дома и монументы, даже не новые порядки и нравы…. Новые песни! Потому, что дух времени – в его песнях. Время, которое не оставляет песен – безвременье. В песнях память сердца о былом и сущем, их чувствах, болях и надеждах, живое ощущение времени: его душа. «Новые времена – новые песни» – так говорят старшие поколения. И есть здесь и горестная укоризна за измену песням старым ради песен новых, которые не обязательно лучше, хотя подчас шумны и навязчивы. В этой укоризне – и печаль об уходящем – своем – времени. Новой – песне стать легко, трудней ей стать старой, трудней пройти ей испытание временем, жить долго, стать выразительницей сокровенного чувства времени, его настроением и душевным ликом!
А есть песни как бы и вовсе вечные. Точно рождены они в тишине вечерних звездопадов, в шепоте трав, в безмятежной синеве дневного неба, рождены полями, осиянными солнцем, всей приязнью вешнего цвета. Бывают они как бы само детство – и трогательные, и бесхитростные, и все же – незабвенные!.. Трудно вообразить себе, что когда-то забыто будет, скажем, столь бесхитростная вроде бы, грустная и светлая – вечная – потому что из души народной, ее поэзии – песня:
Позарастали стежки-дорожки…
Кто ее автор?.. Никто? Но так не бывает… Стало быть, народ? Впрочем, разве подлинный поэт – не народ-поэт? А песню мы помним всю жизнь, всегда встречаем ее с приязненной улыбкой. И вроде бы оставили ее далеко позади, устремясь сами за спешащим и нетерпеливым веком, а она каждый раз оказывается впереди, скромно нас дожидающейся. Точно наше детство в сновиденьях. И дальше идет через годы и время, безначальная и бесконечная: вечная. Сколько таких вечных песен! Идет себе бескорыстная и задумчивая, несуетная и задушевная, как сельская красавица, босоногая, по заревым – песенным – стежкам-дорожкам. Идет как воспоминание о любви, как сама любовь и грусть о любимом, то ли разлученном, то ли на войне убитом, уже необратимом, и все же единственным, все же – любимым!.. Вслушайтесь в слово «по-за-рас-та-ли», разве не слышим мы тут мерную поступь девичьих шагов, само ее чистое и ровное дыхание, сдерживаемое в волнении, шелест высоких росных трав, ласкающихся к девичьим ногам – поступь самой песни на утре занимающегося дня. И поскольку мысль о нем, о любимом, слова, простые и пронзительные, бесхитростно-сердечные, трепетно-личные и образные как бы сами приходят на уста. Благодаря искренности изболевшегося сердца, сердечной мелодии – все становится истинной поэзией! И даже не понять – поэзия ли творит чудо мелодии, сама ли мелодия рождает чудо созвучий, почти незаметных звукоповторов, внутренних рифм («ста-стё», «ра-ро» и др.). Все здесь – единство чувства, звука, смысла! Как мудро и многозначно поставлен в начале строки слог «по», пытающийся все покрыть медленным забвением, тщетно противостоять памяти любви – былой, все же больше элегической, чем страдательной. И этот же слог рождает медлительность, сливающуюся с вечностью, он точно увещевает время не уходить, подобно самому чувству, предстать бесконечным! Слог придает времени и желанную неопределенность, без начала и конца. И время одолевается, оно становится условностью – все повторится в детях, во внуках, в этих полях, во всем просторе беспредельного мира…
Второй строке песни («Где проходили милого ножки») еще удается удержать элегическую растроганность, но это уже не под силу третьей строке «(Позарастали мохом, травою»), где чувство срывается на приглушенный стон, в зазвучное рыдание, чтоб вновь овладеть собой в четвертой строке («Где мы гуляли, милый, с тобою»). «С тобою» – здесь главное, смысл жизни, боль и оправдание ее!..
«Новые времена – новые песни»… Так было, так будет. И горестна здесь укоризна в непочитании уходящего. Но есть здесь и подспудная вера, что у каждого нового времени так или иначе наступает тот миг зрелости – когда душе без старых, вечных, из души народной, песен – невозможно!
Время юности наших отцов, которых уже почти нет с нами. Но вспоминая их песни – мы вспоминаем их. В песне главное духовное наследие, самый бесценный завет. Может, нет ни старых, ни новых песен – есть лишь песни настоящие и поддельные?
Наш паровоз, вперед лети!
Звонкоголосые двадцатые, время нетерпеливой надежды на незамедлительную мировую революцию. И как было не ждать ее каждый день, каждый час: ведь она – само упование юности, сама справедливость и человечность, и красота! Да и ныне она остается такой – сложнее лишь стали пути, вернее препятствия, перед нею… Сколько энергии, бодрости, юного и победительного задора в одной лишь этой, такой, казалось бы, наивной в век космических полетов, строке – о летящем паровозе! Да и паровоз ли это – не та же, немного материализовавшаяся, метафора все того же огромного очистительного пламени революции, о котором писал еще Блок: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем»?
А время народной битвы с фашизмом? Невыразимо сложно и разнообразно его песенное выражение! От, скажем, полной самоотрешенной грозовой патетики и необъятной мощи – «Вставай, страна огромная…» – до, скажем, тихой и лиричной – «На позицию девушка провожала бойца»…
По-своему пишет историю народной жизни – песня. Особый летописец народной души – ее лиризм. Самый интимный подчас, он оказывается и самым достоверным и долговечным. Он осуществляет завет поэзии – «Чтоб в мире утвердилась связь». И прежде всего – связь поколений!







