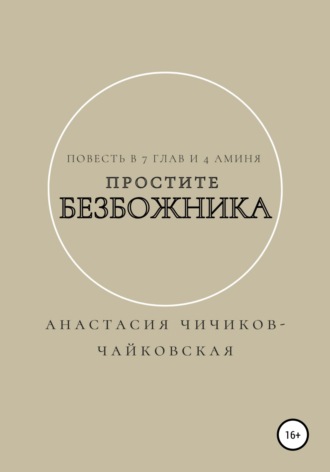 полная версия
полная версияПростите безбожника
Аминь II
«Та бумага. Бумага, которой я кончил прошлую запись. Эта бумага была мятой желтой, от нее пахло травами и руками той цыганской твари. Жиром ли каким, краской ли какой иль гнилью? Бог знает! Хотя, могу ли я его упоминать после всего того, что со мной произошло? У нас должна быть церковь! Но смогу ли я зайти исповедоваться.
– Господи, прости! – я встал на колени и посмотрел в угол, где стояла икона. Пыльная, не зрела Богоматерь моих грехов, не зрела. И не знал о каком прегрешение мне хочется рассказать, не знал. Не знал! Меня это вводило в ужас. Я унижал людей, унижал и гневался, я пугался, я никогда-никогда не любил никого, кроме одного человека. Одного человека, которого Бог у меня забрал. Можно ли наслать было на ту душу светлую подобное испытание? Почему эта душа не попросила меня о помощи? Почему милая ушла?
Разгневался я в ту же секунду, встал с колен, схватил икону, сдул пыль и глянул в эти немые страдающие очи. Глянул на младенца, на мать его и рассмеялся. Рассмеялся так злобно как мог, да ударил лики эти иконные об стену. Оно треснуло, треснуло посредине, а потом я отскочил. Отскочил, ибо у меня в этот момент треснуло сердце. Я сам ударился об стену, вцепился в волосы, вцепился с такой ненавистью. Почему ж все кончилось? Почему нежность кончилась? Почему-почему я совсем один? Почему я дышу? Я глянул в зеркало, глянул и узрел потрет всего страдания, какое даже на той доске, разбитой узреть не удавалось. Кровь на губах, царапины, оспины, разбитый нос. Только боли не было совсем у тела, оно умерло. Оно умерло. Умерло. Оно брошено и мертво. Души моей больше нет, что же мне нужно сделать дабы ее вернуть? Цыганка сказала обратиться к бесу. И я обращусь.
Пусть эта тетрадка станет моей исповедью, которую я не могу произнести вслух! Пусть это будет новый гримуар. Пусть это будет что угодно.Пусть будет. И без какого-либо раздумья очередного, не вытирая крови с пальцев и лица, я начал читать, говоря вслух особо зацепившие моменты.
«Обратитесь к Бесу, юноша,
Обратитесь, Божья вша.
И верните родного себе раба.
Верните родное навсегда,
Верните любимое во славу черта.
Начертите белым три круга,
Начертите в нем себя.
Начертите гроб,
Люциферовы глаза,
Киньте карту и тогда,
Вам откроются врата,
Врата немого рта.
И свиного пятака.
Аминь.»
Аминь! Аминь. Пусть же. Руками своими дрожащими я сдвинул все столы в сторону, все стулья и тумбы, да принялся рисовать с таким восторгом, какой не ощущал никогда в жизни. Я возможно был счастлив. Не знал почему, но был. Я рисовал, я пел романсы, пел и в них сквозило родное мне имя, имя, которое я, казалось, давно забыл. Имя любви. Если только дьявол может вернуть мне эту радость возможности быть любимым, если только дьявол может одарить меня, то пусть. Бог нем, Бог глух ко мне. Он насылал мне лишь страдание.
Я нарисовал в трех кругах прямоугольник, крест на нем перевернутый и глаза змеиные. Я нарисовал и когда собирался в гроб ложиться кинул карту, кинул карту и край ее загорелся. Воспламенился. Слово даю! Загорелся всеми закатами, которые только бывают в мире. Загорелся, как щеки юной девицы. Загорелся и падая на деревянный пол разжег мне проход в преисподнюю. Я же летел в это зовущее меня пламя без страха и мысли, летел и чувствовал, как жжет ланиту, как жжет пальцы, но потом была лишь темнота. Темнота, слизкая темнота и кто-то тащащий меня под руки…
Ужас поразил меня, я уже было поверил, что умер. Но нет! Некие сущности человекоподобные, с крыльями мухи, ногами козла и глазами где царила только пустота, тащили меня по красной-красной от жара пещере. Камни верно плавились, а я в одной рубахе, как в крещение, не смел даже дышать. Это черти. И черти несли меня неизвестно куда, в пасть чью-то. Я покрутил головой, надеясь, что это останется незамеченным, но что уж! Рассмеялись эти рыльники адовы, рассмеялись и я точно видел акульи зубы. Шерсть словно кружево манжет вокруг копыт, шерсть и чешуя. Хвосты, хвосты и крылья-крылья! Там был выход, выход наружу из красного тоннеля жара. Я слышал, как кричат грешники, знал, что верно так же скоро кричать буду, но меня лишь повели по лестнице вниз.
Эти черти сменились иными, им во всем подобными. Те принялись мне к лицу гостинцы подносить, но что же то были за гостинцы! Гранаты, апельсины, виноградные лозы, но что не тронь, то сразу виделись мне мученики, варящиеся в смоле. Не мог я принимать даров из этих рук чертовьих и вежливо октазывался:
– Не одаряйте меня дарами, не одаряйте, – и пытался вырываться из рук, из цепких-цепких дьявольских рук пытаясь не задохнуться от жара меня окружающего. До чего же жарко! До чего же невыносимо!
– Вы гость наш, гость наш! – в один голос кричали со всех сторон, подобно хору церковному, только здесь был крик истеричный. Все шло в разрез с раем, с Богом, с нежным лоном сада.
– И куда же вы меня ведете? – спрашивал я их, когда они очередной раз подкидывали меня в полете, а летели они куда-то вниз. Вниз, вглубь всего этого кошмара, где единственный свет – огонь страдания. Я видел, как где-то сверху крутятся несчастные влюбленные в урагане, видел, как безбожники бегут по песку и бьет их дождь красный. Я видел и понимал, где я по итогу буду.
– К Царю нашему! – к царю, к Люциферу, верно.
Меня нарядили в красный бордовый камзол, исшитый золотом, надели на ногу лучшую туфлю, какую только мог я представить, причесали, и все это в процессе нашего путешествия воздушного! Какая-то чертиха, а то я понял по страшной уродливой женской груди, поднесла к моему лику зеркало, узрел там я молодость, юность, но знал, что лживо это все! Хотел лишь наконец-то приземлиться.
Хлад ударил мне в лицо, привели к Люциферу. Тот сидел на ледяном троне, вокруг него плясала бесота, так напоминающая придворных. Все разодеты, все в украшениях все танцуют и лик у Люцифера был белый-белый, очи пустые незрячие, руки когтистые, нос величавый. Только от белоты его, от схожести с ангелом бывшем не скрылась истина. Крылья темные, корона голову давящая, да зеркало в руках, тоже изо льда, то гордыня проклятущая. Гордыня царство ему подарившая.
Я покланился.
– Не хочешь потанцевать?
– Не хочу, Ваше величество, – его величество пожал плечами, и сразу же толпа бесов исчезла. Да и сам он словно стал больше козла напоминать, ноги то подобно фавну, да и рога имеются, что болезненно ломают злато кроны.
– Может яств желаешь?
– Предлагали мне уж, Ваше величество. Не за тем я здесь, прощайте, – я встал на колено, как его жест потребовал.
– Так чего жаждешь?
– Я жажду вернуть свою возлюбленную, Ваше величество. Бог слеп ко мне, слеп и нет у меня другого выхода, как Вас молить. Цыганка мне посоветовала к Вашей милости обратиться.
Его милость улыбался скверно, как скривился от божественного упоминания. Мне даже показлось, что я слышу звон железа доспех, что сейчас меня прижмут к ледяному полу, где отражался мой чудно юный лик. Что окажусь я под каблуком дьявольским, что в подчинение навечно останусь и снимется с меня камзол, да кинется мое тело в горящую могилу. И снова посереют синие когда-то глаза, и снова поседеют пряди и снова мука лик измучает. Но Люцифер не зол покуда, не зол.
– Моя милость не дается задаром, – и он подозвал меня рукой, я не попытался бы встать, но понял, что мне ползком к копытам подобраться надо, под длань царскую, перстни мне тут же поцеловать пришлось.
Я не задавал вопросов, я ждал покуда мне скажут, что от меня требуется. Скажи это существо пропитанное холодом и мраком, от которого пахло глубиной и смертью, исцеловать пол, верно, прилипая ко льдам, или отрубить себе руку – я бы не раздумывая согласился. В моей голове было лишь желание скорой встречи с моим счастьем, с моим единственным счастьем, которое так нагло было отобрано у меня, вырвано из пальцев! Из моих слабых пальцев, вот ровно таких же, как в этом аду – юных, без такого количество родинок и пятен. Юных пальцев с колечком утерянным.
–Одной твоей души мне будет мало за такую услугу, – и он, царь темных красных тоннелей, князь тьмы и ужаса, король опарышей и ужасающих стонов, разносящихся здесь за стоны любви при жизни – Потешь меня.
– Как мне стоит Вас потешить?
– Я хочу послушать Реквием. Спой мне его.
Я замешкался. Я здумался и ощутил, ощутил, как мои пряди болезненно оттягивают, как заставляют нагнуть голову назад и обнажить шею.
– Ежели мне придется не по нраву, то, – я слышал, я точно слышал чей-то ужасающий раздирающий визг болезненный – То ты из моего достопочтенного гостя обратишься в моего пленника, милый друг. Пой же!
– Трубы удивительный звук пронесется над кладбищенскими странами…
И точно мне заиграл орган откуда-то, и точно не знал я выйдет ли. Но пел! Пел, как мог. Пел. Как знал. Не зная, не зная, что ждет меня дальше. Пел, пел ощущая, пальцы в волосах и надеясь, надеясь, что все это заимеет хоть какой-то смысл. И когда же с моих уст слетело последнее слово, тогда, тогда я услышал ответ: …»
Аминь III
«Сатана ответил не сразу, он размышлял. Оглядывал меня с головы до каблуков им подаренных, оглядывал и думал о чем-то мне неизвестном, я знал, что сейчас решается моя судьбина жалкая. Моя жизнь. Скорее моя смерть, коль я останусь. Решение то зависит от реквиема! И я мечтал верить, что пел его не в свою честь.
– Что же, то было весьма! Ты получишь то зачем пришел – был вывод княжеский. Вот он темный лик, а вот и рука вздымается над моей головой, вздымается и отдает указ чертику в дверях привести мне мою любимую для свидания – Я обещал научить тебя искусству некромантии, верно?
– Да, Ваше величество, Вы обещали, – но имеет ли вес клятва дьявола? Мне предстояло узнать. В конце концов это не примитивный черт, а их повелитель. Разве в пору ему врать столь мелкому существу, как я? Столь мелкому и покорному, пред Богом такая покорность привнесла лишь страдание. Здесь же есть какая-либо вера в счастие, пусть и краткое.
– А как ты думаешь, – спросил меня царь всех бесов – Как ты думаешь, милый мой, хочет ли вернуться в мир смертный твоя любимая? Сама ведь избрала для себя сей путь, что же ты ее лишаешь счастия смерти?
Я чуть не начал говорить о воплях, всюду летающих в этом темном мрачном месте, где зловоние жженой плоти разбавляется лишь ее гниением. Я готов был описать все, весь кошмар здесь творившейся, но вовремя одумался, покачал головой, где кудри черные явились.
– Хочу быть счастливым, Ваше Величество. Я не могу более грызть себя чувством вины, и я не верю, что ей принесло счастие присутствие в Ваших владениях.
– Столь ли они плохи? Разве не щедры они к тебе были? – игристость снизошла до меня, шутливость. Сам ведь знает всю истину.
– Законы Ваших земель справедливы, но разве оценит убивец смертную казнь?
Мне кивнули, позволили наконец-то от престола отойти пред тем очередной раз поцеловав хладные перста. Я не знаю, что чувствовал – ужас, печаль, все вместе? Радовало лишь то, что я вновь увижу ее. Деву из своей счастливой юности, деву, которая так жестоко меня покинула. Думала ли оно обо мне уходя? Почему же так поступила?
– Коль веришь ты в мою справедливость, милый друг, поверь мне и в том, что не будет она тебе за это благодарна, и по справедливости, свершаешь ты действо неправильное. Но не в моем праве стоит нравоучение! В моем лишь исполнение приговора.
– При всем моем к Вам уважение, но я не могу отказаться от этого
На том все и кончилось. В зал хладный завели женщину в которой я с трудом мог узнать душу свою. Вся в грязи, волосы всклочены, глаза безумием злобы и несчастия горят. Ее внесли же под руки два рыцаря рогатых. Кинули на пол, та сразу на колени в поклоне и исподлобья принялась оглядываться. Грудь ее вся истерзана была птичьим клювом! Несчастна дева! Я прижал руки к собственным устам пытаясь сдержать рыдания. Но не заплакать в аду, не заплакать при троне дьявола, где лед скует слезу. Я смотрел и не знал – она ли смеялась мне игриво прячась за портьеру? Она ли? Что с Вами стало, милая? Это была единственная мысль в моей голове и я усмирял ненависть ко всем этим уродцам ее обрекшую на подобное мучение. Она сама выбрала. Выбрала. Но не сделал ее этот выбор счастливым?
Она увидела меня, увидела меня своими красными уставшими глазами и спросила, не меня, а князя темного. Я не слышал ни слова! Лишь шептал:
– Надежда Фрисова. Надежда Витальевна. Надежда!
Я пытался дотянуться, схватиться, но не могу двинуться. Не мог. Лишь смотрел, как она о чем-то плачет черту. Бежать что ли пытается, но ловят и, господи, как же она билась в руках солдатни сатанинской. Визжала ли, плакала ли! Господи, господи. Я смотрел на повелителя всего этого ужаса готовясь вновь упасть на колени моля прекратить ее мучать.
Надежда, если бы я знал! Милая, луна и солнце, вода и огонь! Надежда, Вы весь мир и что же Вас затянуло в ад? Почему же черти смеют руки свои к Вам тянуть? Сатана смеется, указывает рукой на милую мне и я, наверное, мог бы его загрызть:
– Вырви ей сердце, друг мой. В нем, в гнили этой грешной, хранится душа твоей милой.
– Ей будет больно? – спрашиваю я шепотом, чувствуя, как ноги мои слабеют, а руки трясутся. Не мог я на то смотреть, не мог. Надежда, господи! Милая, прошу Вас. Милая! Милая. Господи нет, я не могу оставить ее здесь в страдание, не могу! Не могу! Как же?! Чем ее святой лик то заслужил? Чем заслужила?
– Ей будет больно, ей будет больно! Бросай сей бред, эта боль ничтожно мала по сравнению с тем, что она испытывает в своем заключение, – в моих руках из ничего является кинжал, я немею и белею. Он прав, но, прошу.
– Что она говорит скажите, прошу!
– Слишком многого хочешь. Делай покуда я милостив! – он гневается, я замолкаю. Я пытаюсь читать по губам и это бессмысленно. Я плачу, я плачу и подходя к ней, под строгим надзором чертей и строгим руководством Люцифера свершаю надрез. Ее глаза чернеют, я прошу прощения, я пытаюсь взять ее за руку, улыбнуться, хоть что-нибудь, дабы сказать, что я не хочу, не хочу этого делать, не хочу причинять ей боль. Я хватаю черное сердце, хватаю и нежнейшим образом извлекаю на тьму дьявольскую.
– Теперечи у тебя в руках ее душа. Запоминай, что я тебе скажу и возвращайся обратно.
– Слушаю, Ваше Величество, – душу ее я прижал к груди и склонил колени вновь. Надежду же увели, знала бы она, что я мысленно поклялся ее вернуть. Милая, Вы достойны рая. Хотя бы на земле.
– Слушай же, слушай! – как нравилось ему повторять – Владимир, Владимир! Саван продержанный у склепа разложи на столе, выложи сеном на нем фигуру человечью, кости палками древа сотвори. И сердце положи внутрь сена там, где грудь будет. Когда тело начнет плотью являться тут же кольцо на палец явленный оденьте, – он кинул мне в руки кольцо, где начертано три имени было – Бример, Субурит, Транаирт.
Я кивал, кивал на каждую его речь и потом, последнее, что заявил он мне:
– Потом нарисуй круг, зачти в нем проклятие заклятие и в тот час очнется женщина. Сотри круг, сними кольцо и спрячь в ларец, так спрячь, дабы она не узнала где колечко лежит. Коль не успеешь – судьбу решит твою ее воля. Негоже душам оживать.
И меня унесли, вывели за руки из тронного зала, вновь взнесли над тьмой пламенной ада, но я уже ничего не понимал. Не понимал ничего, покуда…»
Смех, смех…
Яков гладил страницу с символами этими кривыми, и думал, думал о том, каков же этот Владимир – он так жестоко поступил с милой своей, столь неверно, разве так можно? Разве можно ради своего счастья? И тешился лингвист тем, что никогда бы так не поступил. Вот оно простое для человека, кто же так не делал? А Владимир был ли таким, каким себя написал в своей истории? Это все точно сказка, выдумка опиумной головы бедного лекаря.
Лишь кольцо могло что-то потвердеть. Где же он было? Яков почему-то был уверен, найди они это колечко дьявольское, то все прояснится и можно будет что-то утверждать. Загадки всегда имеют ответ! И ему было весело, очень весело. Все его уныние кончилось, он забыл о ссоре своей недавней с товарищами и смел писать им, прикладывая аминь новый, говоря о своем желание съездить в город большой, где получил свое образование. Да и про кольцо спросил. Ему быстро ответили, что кольца никакого в собственности не было, пустили в путь спокойно. Запретить словно могут? Яков мог бы даже поклясться, что, когда уезжал, видел Лизавету Петровну на утреннем променаде. Какая трагичность лица! Как белеса кудря! Он так и не смог себя переселить и кивнуть ей приветственно. То было неважно. Он всучил деньгу кучеру и помчался, впрочем, всю дорогу он проспал. Не далек путь был. И между сном…
Он вспоминал, вспоминал годы юности, когда еще была вера в необычайность и легкость, когда были мечты и цели. Когда он плакался над второсортными романами, когда он впервые их переводил. Когда-то тогда, когда-то тогда, когда у него были друзья и близкие, действительно близкие, а не разбивающие носы – то Ионтий. Яков хотел бы вернуться туда, дабы не ссориться по глупости, дабы сейчас было с кем поговорить. Единственный, кто с тех времен остался – спившийся тысячу раз Григорий Андреевич. Странный поэт никогда своих стихов миру не показывающий. Ему было признание отвратно.
Ему лишь бутыль была близка, ближе любого товарища. И Яков не мог к нему не зайти. Его что-то само вело к крыльцу чужому, где всегда дверь открывали, где всегда смеялись и наливали. Где всегда был кто-то.
Его и в этот раз пустили позволили усесться за стол маленький, скатерть рвана кружевом. Кружевом и пыль лежала на полках, рядом с листами толстыми желтыми. Яша знал – то поэмы. Он пару раз просил дать их прочитать, но ему никогда не давали. И он хотел бы попросить еще раз, может что-то изменилось? Григорий Андреевич всегда был столь добр, не смотря на любое похмелье и горе. Удивительный человек с янтарными глазами, янтарем коньяка. В щетине, в роскошных бакенбардах и в серых кудрях.
Вы подумаете, мол, вот он друг! Но Яша чувствовал к этому человеку лишь жалость с немым восхищением, а Григорий чувствовал… Ничего, наверное. Он может даже лика не помнил лингвиста, однокурсника. Лишь янтарь коньяка смотрел на чашку кривую, самим поставленную, да чаем налитую. Давно не зрел он напитков подобной крепости! А Яков просто давно не пил – ни воды, ни чая. Разве что водку пару дней назад.
Или может все по-другому? Или может попросить еще раз? Он не знал.
– Как ты, Яша? – спросит первым Григорий, беззаботно.
– Никак, Гриш. Разве что вещица мне в ручонки попала крайне занятная, – то конечно же должно было быть тайной, но, как и всякий человек, Фрицевич сдержать ее не смог. Он прямо-таки заливался пересказом этой рукописи из гроба, словно молвил о сюжете любимой пьесы. Так он в последней раз говорил лишь о Шекспире.
– Вот это да! Какой сюжет. Ведь на пору этого Владимира еще и «Фауст» выпал, да и роман готический, – Гриша даже оживился, забегал глазами не пусто, а любопытствуя – Какой поразительный талант. Нет, правда, он же этот шифр еще должен был создать… Не Фауст, Владимир твой. Это! Это удивительно. И этот человек, да лекарь?
– Довольно плохой, прошу отметить, – хмыкнул Яков – Последние дни свои он доедал локти. Знаешь, если бы мне дозволили, я бы тебе принес те начертания. Они удивительны!
Григорий покачал головой, его серые-русые пряди пали на лоб спиралькой, глаза сверкнули, и он вывел, вывел словно пьяный, пусть той чай, но он пьян всегда. По его венам верно струится вино, благо не водка.
– Не все то гений, кого признают. Каково оно признание? Глянь! Вновь упущенный покойник – не вскрой его могилу, и никто бы сего шедевра не узрел.
– Разве это повод, – удивленно спрашивал далекий от всего этого Яков, слишком простой и приземленный для рассуждения о величие – Разве повод это даже не пытаться выйти в свет?
Григорий хмыкал на все это – он ответ знал. Он решил спиться, он решил пропить свой талант, он решил похоронить его с собой где-то среди любовниц и больной печени. Но кто ее будет лечить иль все лекари мертвенно бледны – бледны идеей.
– А что пытаться, Яш? Все оно тщетно, я сам оное понял.
– Ты даже не пытался, Гриша. Ты даже не показывал ничего своим, – язык не повернулся сказать о дружбе – товарищам.
– В чем толк? То, что мной написано станет лишним подтверждением слепоты общественной ко всякому уму, – печаль горькая ела злато глазное и оно встрепыхнулось, попыталось сбросить с себя петлю меланхолии дурнышной.
– Что мы чаи пьем? Пойдем выпьем чего крепче, в честь встречи!
Яков подумал, что тоже хочет спиться. Он слишком устал от всего этого.
– А давай я дам тебе что-нибудь, – вдруг воскликнул горе-поэт, совсем не на песню предложения – Дам тебе почитать что-нибудь… Ну право! Прочтешь и поймешь от чего не показывал.
– А потом выпьем?
– Давай все вместе, нам нечего терять.
На том они и решили. Только не хотели они в каморке ютится, они пошли пить туда, где звенела когда-то их молодость. Куда-то к блеску реки, куда-то к блеску снежному и блеску зеленых мышьячных платьев. Искры, искры! Безумное беззубое пьянство, хоть не опиумное. Но когда они из интереса брались за руку, когда таскались под ручку напевая православные гимны, Яша видел желтый ноготь. Он не спрашивал, он сравнивал лишь со своими. Потом что-то кольцевало шею, потом что-то кололо нос, потом-потом. Все то было празднество среди чумного ничего. Богоматерь смотрела из церкви, как чьи-то сыны сами себя распинают. Только не было у них матерей, и отцов давно не было.
Смешливый пьяный путник из города имени Морта запомнил лишь одно – они шли с Григорием Андреевичем закругляться, ибо круги пред очами дымились фиолетовым и желтились черным. Адская какофония. И ад был даже не в ней, а в очередной встреченной дамской юбке, правда, знакомой. Мимо театра шла пара – какой-то важный толстый господин с слоновьем шнобелем, но он тут неважен, а с ним женщина. Ее лицо Яша не смог бы не признать! То была невеста его любимого друга, друга. Единственного друга за жизнь, а не спиртового господина, что никогда ему не доверял и, чего врать, даже не помнил уже ничего. Яшечка, Вы кто? Яшенька, а когда мы познакомились? Вы Яшенька или Толя? Бог же с ним, он сейчас тычится в ладонь и ржет по-скотски. Бог с ним! Женщина. Женщина! Эта женщина. В синем платье – сплошной изыск кружев и брошей.
– Мария Николаевна, – он отпихнул, как последнюю грязь Григория Андреевича, он вмиг протрезвел и подбежал – Мария Николаевна!
Ее спутник аж весь передернулся, позеленел от отвращения к комару – а Яша точно комаром был в одной из своих жизней. И бабочка – а Мария Николаевна точно была бабочкой в одной из своих прошлых жизней – глянулся жалостливо, удержалась на ветру.
– Яков Фрицевич, друг мой, сколько лет! Гостить приехали? – или может пить? Продолжил за нее черт с плеча, хвостом чрез мгновение махнувшей. Медь локонов, злато глаз и изящество всякого рода не могло соседствовать с бесами. Значит она не могла бы предать Федора. И Яков не мог не спросить:
– Что с Федором? Что с ним?
Его охватил дичайший ужас, позеленело уже не в глазах, а на щеках. Он схватился за сердце и до него донесся этот медовый голос с какой-то смешливостью, отвратной.
– Федором? Федор умер несколько лет назад – повесился.
Земля под ногами вмиг исчезла, все залил горячий свинец и смех, смех…
Кольцо
Грязная серость глаз, грязная серость потолка и немая белая пустота за окном. Снег бился об стекло, молил пустить согреться, но злой человек гнал его к чертям – там всяк теплее. К чертям, к раскаленным рогам и крыльям. Яков не знал каков ад, но был убежден, что он схож с тем ужасающем чувством его сжигающим. Разорвались швы, полилась слезная кровь и бинты-бинты никто не принесет. Они и не помогут. Тут лишь переливать! Да кто согласится?
Он не помнил, когда открыл глаза, что увидел. Головная похмельная боль – ничто. Телесное не трогало. Что от тела? Оно смертно, оно ничтожно, раздето болью. Какая разница, что с ним станет, если жить уже не для чего? Какая разница, что станется с этими двуями идиотами из отчизны? Какая разница? Никогда Яша еще не понимал всего своего одиночества, он его забыл в нем существуя. Не думать – к покою. Но как же, черт дери, не думать, когда все твое нутро разрывается при каждом вдохе? Как же, черт дери, не думать?
И черти драли двери. Тень кого-то из них пролетела по пыльной стене, и один опустился к человеку. Сел рядом, взял за руку дланями снежными и Яков не мог не взглянуть – там был мужчина. Мужчина с прядями и очами синевы ночи, скорее даже юноша. Эта юность омрачалась отсутствием румянца всякого, искры жизни всякой, и холодом, бездушием. Яша потянулся, потому что не мог не потянуться до чужой ланиты, и с ужасом, диким ужасом, отполз подальше, чуть не падая. Он не понимал. Он не понимал! Он хотел кричать, он хотел кричать, но как только он открыл рот – ощутил хлад на языке. Чуть не подавился, плюнул и глянь – кольцо. Влажное, горькое, с серебряным бочком, где начертано три имени – Бример, Субурит, Транаирт. Как же? Кто же?

