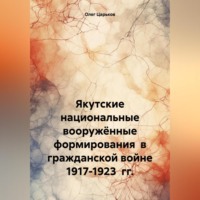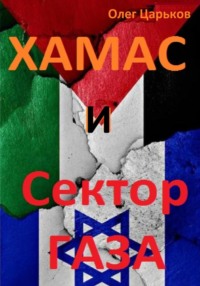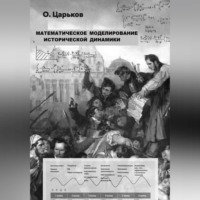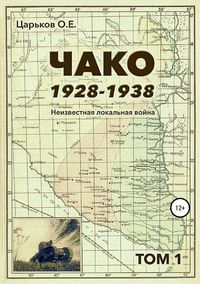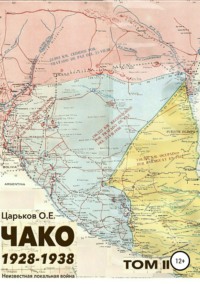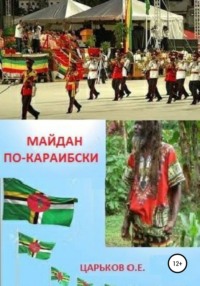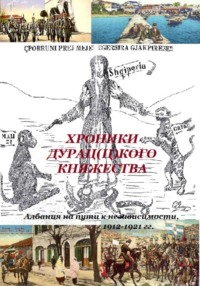Полная версия
Очерки истории Саха: рождение Республики
14 марта в Якутск поступило телеграфное распоряжение уполномоченного Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома по созданию Якутской парторганизации и уполномоченного Сибревкома по организации Советской власти по Якутскому уезду(району) М.К. Аммосова540 о роспуске военно-революционного штаба. Вместо него был организован коалиционный Временный ревком в составе председателя большевика Х.А. Гладунова и двух членов541, первой акцией которого стало проведение земельного съезда Якутского уезда. Ликвидация ВРШ Якутска была связана с опасением повторения Николаевским инцидентом542, во время которого партизаны анархиста Я. И. Тряпицина уничтожили не только японский отряд, но и всё японское население Николаевска543.
Внутренней причиной, по которой ВРШ согласился передать власть ревкому стал финансовый вопрос. Растратив средства и разбазарив товары, добытые В.В. Новгородовым у Колчака, область оказалась в стеснённом финансовом положении.
Председатель Революционного штаба X. Гладунов сообщал в Иркутск: «В виду ограниченного запаса денег, отсутствия прилива средств закрытием продажи вина, область в критическом положении – нечем удовлетворять неотложные расходы: почтовую гоньбу, учебную часть, служащих жалованьем и проч. Прошу срочно выслать Якутскому казначейству денежное подкрепление приблизительно 20 млн. рублей». Одновременно с пересылкой денег544 представитель Якутской области по заготовкам в марте получил 600 тысяч аршин мануфактуры, 100 ящиков кирпичного и 46000 фунтов байхового чая. В дополнение к этому Сибирский земотдел выделил для Якутии сельскохозяйственные орудия и инвентарь545. Совершенно ясно, что все эти поставки были увязаны с роспуском ВРШ.
ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ
(1920 -1921 гг.)
С образованием временного ревкома в Якутии начался новый этап – период политики «военного коммунизма», составными частями которого являлись продразверстка546, экспроприация собственности и жесткий партийно-правительственный контроль над хозяйственной жизнью общества. Ключевым элементом этой системы должен был стать продотдел547, права которого были существенно расширены548. Отдел имел право реквизиции предметов первой необходимости, регламентации потребительских цен и розничной торговли, регулирования ввоза и вывоза товаров и продуктов по области. Другой важной функцией продотдела стало определение норм потребления для различных категорий граждан и распределение предметов потребления по установленным нормам549. Однако, центр не испытывал к нему особого доверия, опасаясь разбазаривания средств. Поэтому по рекомендации М.К. Аммосова, в Якутии была введена должность губпродкомиссара, на которую был назначен члена Иркутской губпродколлегии К.Е. Андреевич550.
Новая структура советской власти начала551 свою деятельность с экспроприации Вилюйских соляных источников со всеми постройками и запасами соли552. 3 мая ревком принял решение о конфискации всего имущества торгового дома – «Наследников А. Кушнарева», лично П.А. Кушнареву и А.А. Бушуевой. Вместе с ним продотделу были переданы товары фирмы «Вульфсон и К°». Конфискации и передаче в рабочий клуб также подлежали частные библиотеки Меликова, Семёнова и Кушнарева. Конфисковав «культурное наследие буржуазии», ревком запросил из губернии 25 учителей, учебники, школьные принадлежности и дополнительные 50000 рублей на организацию учительских курсов, указав, что из полученных ранее сумм 70000 рублей отпущены на открытие пансиона при Якутском сельскохозяйственном училище и 35 тыс. рублей на достройку высшего начального училища в Чурапче.
Даже городским обывателям было очевидно, что японцами будут предприняты карательные меры против Дальневосточной республики, буферного образования, созданного большевиками 6 апреля 1920 года для того, чтобы избежать войны с Японией, которая отправила свои военные корабли к Сахалину. Так, 21 апреля на рейд Пост-Александровска на Сахалине пришел крейсер «Мисими», вскоре к нему присоединился броненосец «Микаса», военные транспорты и несколько миноносцев. Под прикрытием башенных орудий японцы высадили десант553 и оккупировали русскую часть Сахалина. Слухи о скором японском вторжении циркулировали даже в Якутске. В частности, депутаты уездного земельного съезда, проходившего 17-21 апреля, на полном серьёзе обсуждали скорое прибытие японских аэропланов, которые к 1 мая прилетят из Охотска по линии Алдана и займут Якутск.
Эти слухи подтвердились 21 мая, когда на рейде Охотска появилась японская канонерка, высадившая на следующий день на берег десант554. Не желая вступать с ним в бой, местные партизаны, отступили в тайгу, прихватив всё наличное оружие, боеприпасы, золото555 и запасы продовольствия. При переходе через Джугджур они разделились корейский отряд Кима Ыннэ556 двинулся прямо на Иркутск, а анархисты во главе с Сосуновым и Пузырёвым – по Охотскому тракту на Якутск. Японцы на берегу долго не задержались. Разрушив радиостанцию и прервав телеграфную связь, они погрузили на борт часть казенного имущества557 и вышли в море. Через три дня после ухода японцев на берег высадился уполномоченный правительства ДВР по Охотскому уезду А.И. Сентяпов.
После ухода большей части партизан Охотск погрузился в состояние анархии, приводившей к насилиям и грабежам. Охрану порядка в городе и его окрестностях взял на себя капитан И.И. Яныгин558, который ещё в апреле сформировал отряд из двух десятков человек. Он отбил нападение приисковых рабочих, стремившихся уничтожить всех, неугодных советской власти, «как класс». Отряд Яныгина обосновался в Новом Устье, пригороде Охотска, вследствие чего в городе образовалось своеобразное двоевластие. Этим воспользовался православный священник П. Коновалов. Он убедил жителей Момского наслега Эльгетской волости, что является уполномоченным Момского, Оймяконского и Охотского контрреволюционных комитетов и утверждал, что по Транссибирской железной дороге на запад двигаются американские и японские войска, а советская власть свергнута на Дальнем Востоке вплоть до Иркутска. 23 мая зажиточные момские якуты, недовольные раскладкой по обганиванию станций, арестовать советских милиционеров. Восставшие образовали «Момский контрреволюционный штаб», который превратился во второй (после Охотска) оплот врагов советской власти на восточной границе Якутии.
20 апреля 1920 г. Якутская Область была реорганизована в особый район Иркутской губернии по решению Омского Сибревкома и лично председателя Сибревкома И.Н. Смирнова, что являлось типичным для интернационалистов-большевиков показателем игнорирования национальных, экономических и географических особенностей малых народов. В Иркутске же находился и уполномоченный Сибревкома по делам Якутии. Партийной работой руководило районное бюро, состоявшее из пяти членов559. Организация большевиков состояла из сорока трех человек и действовала на основе самостоятельно разработанных временной программы и устава.
Уже через два дня после утверждения районного статуса член Иркутской губпродколлегии К.Е. Андреевич направил в Сибревком предложение о сохранении областной самостоятельности Якутии. В нём он выражал опасения по поводу возможности планомерного управления необъятным Ленским краем из географически удаленного Иркутска. Языковые, культурные и религиозные различия двух регионов представлялись серьезным препятствием для учета особенностей Якутии. 9 мая в Иркутске состоялось совещание по этому вопросу с участием представителей Якутии560, которые заняли достаточно активную позицию в этом вопросе. Представитель Иркутского губревкома Беленец заявил о недостаточности аргументов в пользу сохранения губернской самостоятельности Якутии и наличии стремлений иностранных держав поработить край независимо от его статуса – областного либо районного.15 мая 1920 года на совещание руководителей Иркутского губревкома и его отделов повторно обсуждался вопрос о статусе Якутии. На нём возобладало мнение Сибревкома, в результате которого прежняя Якутская область вошла на правах района в состав Иркутской губернии на правах района.

Главным аргументом Сиббюро в преобразовании Якутской области в район решения являлись редкое население и практическое отсутствие рабочего класса. Кроме этого в условиях военного коммунизма и всеобщей разрухи такой статус позволял экономить весьма ограниченные силы и средства на более важные участки социалистического строительства561. Помимо вышеизложенного имелись три другие веские причины стратегического характера. В экономическом плане Якутия в целом рассматривалась как потенциальный источник материальных ценностей – пушнины и золота, а три её южных уезда как поставщики трудовой силы и мяса для Ленских приисков. В политическом отношении она выступала как элемент политического торга: большевики всегда были готовы уступить часть территории Российской империи в обмен на политическое признание562. Наконец, в военном плане она представляла собой единственную коммуникацию с амурскими краснопартизанскими отрядами, разбитыми японцами 4-5 апреля 1920 года563. Для помощи ДВР оружием и боеприпасами формально нейтральная Красная Армия сформировала Особую экспедицию, начальником которой был назначен комендант Иркутска П.Ф. Савлук. Грузы для амурских партизан доставлялись на пристань Ёнкжи, расположенную на р. Олекме, а затем сухопутным путём564 доставлялись на ст. Большой Невер на Амуре. Первый небольшой разведывательный отряд сопровождали эвенки-киндигиры Олёкминской тайги, снарядившие два обоза на 160 нартовых упряжек. На обратном пути Особая экспедиция успешно «эвакуировала» в Советскую Россию золотой запас ДВР с Тимптонского прииска Лебединый (до 1000 пудов) …
Опираясь на мандат Сибревкома, М.К. Аммосов сформировал внушительную команду советских и партийных работников565. Учитывая их дальнейшее поведение и судьбу, следует признать, что это была разношёрстая группа революционеров и авантюристов, Большая часть из которых была набрана по принципу «знаю-не знаю». Именно они реализовали политику военного коммунизма в Якутии, ввели продразвёрстку и проводили репрессии. 4 июня 1920 года они прибыли в Якутск на самом комфортабельном пароходе Ленского речного флота, носившим теперь название «Революционный»566. Вместе с ними на борту парохода находился кавалерийский взвод, укомплектованный венгерскими интернационалистами.



М.К. Аммосов П.А. Ойунский (Слепцов) И.Н. Барахов (Иванов)
Ещё в Иркутске согласно решениям Сиббюро и губкома ЦК РКП (б) был утверждён состав Якутского районного организационного бюро567, целью которого стала очистка партии от «чуждых элементов». Уже на следующий день после своего прибытия Якутская партийная организация568 была распущена, так как «прием в организацию производился с нарушениями устава партии, без рекомендаций и кандидатского стажа». В результате перерегистрации569 в РКП(б) было обратно принято 24 членов и 4 кандидата в РКП(б)570, к концу июля их насчитывалось 53 и 8, а к 15 декабря 106 и 140571, соответственно. 22 июня 1920 г. на первом общем собрании членов ЯкРайОрганизации РКП(б) председатель ОргБюро РКП(б) М.К. Аммосов призвал вновь созданный партийный актив к «железной партдисциплине» и провозгласил «эпоху не слов, а дел». Собрание утвердило новую расстановку кадров и утвердила принцип кооптации в профсоюзы, после чего Оргбюро было реорганизовано в партбюро РКП(б)572.
Очищенная Аммосовым от «пришлых элементов», партийная организация превратилась в кадровый резерв ревкома. Опираясь на него, Аммосов и Ойунский сконцентрировали в своих руках практически всю власть в Якутии. Следует отметить, что проведённая кадровая чистка оказалась совершенно неудовлетворительной. Ровно год спустя, в июне 1921 г. Якутский губком РКП(б) констатировал, что число коммунистов среди заключенных Якутской тюрьмы достигало 20%, и они «явились очень заметными поставщиками уголовного элемента». Более того, выяснилось, что председатель Якутской губчека и глава ревтрибунала С.Ф. Литвинов в прошлом был предводителем шайки разбойников.
Однако, прибывших для полноценного административно-партийного контроля явно не хватало. В связи с этим 13 июня под руководством И.Н. Барахова открылись краткосрочные партийно-советские курсы, на которых идеологическую обработку прошли188 слушателей, из них 146 якутов и 42 русских, в основном, хамначчиты и крестьяне573. Выпускники курсов были распределены на работу в улусные ревкомы, где стали главными проводниками политики «военного коммунизма» и «социального расслоения», приведшим к радикализации якутского общества и росту в нём антисоветских настроений. Многие из них стали надёжной опорой советского режима и добились быстрого карьерного роста, превратившись в глазах якутов в «красных тойонов».
На следующий день после прибытия «Революционного» был распущен временный ревком и создан районный ревком574, составленный из одних коммунистов. При нём функционировали семь отделов575, которые во многом являлись наследниками подразделений прежних органов власти. Новый райревком стремился придать уездным и волостным советским органам стройную систему и единообразие. В связи с этим прежние уездные исполкомы были переименованы в ревкомы576, а комиссариат расформирован. Следует отметить, что замена Советов ревкомами спровоцировала антикоммунистическую агитацию, позволяя идеологам повстанчества впоследствии утверждать, что узурпаторы-коммунисты сами против Советов!
Для борьбы с антисоветской деятельностью 15 июня был сформирован аппарат уполномоченного Иркутской губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, которым был назначен Д. Клингоф. Его штат был очень мал и не мог быстро создать полноценную агентуру за пределами Якутска. Помимо основной деятельности сотрудники ЧК занимались не столько поисками контрреволюционеров, сколько экспроприацией экспроприаторов – «буржуазии, чиновников и духовенства». Это потребовало немало сил и времени, но по большому счёту принесло пользу только в виде изъятия оружия у потенциальных врагов Советской власти.
Руководство хозяйственными вопросами было возложено на Совет народного хозяйства (ЯСНХ), который был образован ещё в Иркутске. Его создание на районном уровне делалось с дальним прицелом и мотивировалось необходимостью решения практических задач на ближайшее время577. ЯСНХ578 был подчинён продотдел, на который была возложена продразверстка. Она распространялась на сельское население Якутского, Вилюйского и Олёкминского уездов, которое должно было поставить125 тыс. пудов мяса, 6500 пудов масла, 360 тыс. пудов сена, 420 тыс. пудов хлеба и зернового фуража. В качестве аванса за эту поставку Совет труда и обороны Советской Республики отпустил для Якутии некоторое количество мануфактуры, чая, муки, керосина, мыла и табака. Только небольшая её часть в размере 600000 рублей предназначалась сельскому хозяйству. Естественно, что ЯСНХ, в соответствии с директивами сверху, львиную долю направил на оснащение колхозов и совхозов579.
Волюнтаристская политика, проводимая продкомом и СНХ, привела к тому, что к концу 1920 года в Якутии возник недостаток хлеба в размере 450000 пудов. Похожая ситуация складывалась и в других сферах. Так, 26 октября «Ленский коммунар» сообщил, что с Вилюйского округа получено 1914 голов скота и 650 пудов масла, а с Якутского, соответственно, 8428 и 3261. План по поставкам скота выполнен на 80%, а масла – 130580. В результате этого уже в октябре 1920 года красноармейские и городские пайки были существенно снижены581, для большинства скотоводов и охотников уполовинены582. Столь удручающей ситуации с продовольствием не было даже в начале 1919 года: тогда голодовка началась только в марте и была компенсирована уже к июню. Якутская общественность стала припоминать Андреевичу его махинации в Облпродкоме в конце 1917 года, приведшие его к аресту в начале 1918 года. Однако, ревком закрыл глаза на промахи продкомиссара и всё списал на происки кулаков.
Одновременно с обложением крестьянства, продолжалась экспроприация промышленных предприятий, обоих банков583, средств транспорта и связи, а также имущества крупных купцов. Этими вопросами напрямую занимался ЯСНХ, который конфисковал кинематограф и фотографию Приютова, клуб приказчиков и имущество «Северо-торгово-промышленного товарищества наследников Кушнарева и Антипина». Другой заботой совнархоза стало восстановление работы местных предприятий и создание новых кустарных производств, а также принятие мер по улучшению работы транспорта и связи. Этот вопрос был передан в ведение кустарно-кооперативно-промышленного отдела584, в ведение которого перешли электростанция, мельницы, лесопилки и всё имущество ранее экспроприированного Кустарного комитета. С первых своих шагов отдел активно проводил политику Сибкустпрома по привлечению кустарей и ремесленников к решению экономических и политических задач советской власти. Она была нацелена на полную регламентацию деятельности мелким товаропроизводителям города и деревни.
В ноябре из состава промотдела был выделен горно-химический отдел585, управлявший кожевенным заводом, скорняжной и пимокатной мастерскими и занимался геологоразведкой и восстановлением железорудного и свинцового рудников586. В ходе дальнейшей реорганизации структуры ЯСНХ, проведенной в январе 1921 г., отделы были укрупнены и преобразованы в управления Губмех587, Губметалл588 и Губкустпром589. Деятельность этих управлений фактически была направлена на уничтожение кооперативного и частного производств. В соответствии с Декретом СНК РСФСР «О регулировании кустарных промыслов и ненационализированной промышленности» от 7 сентября 1920 г. все предприятия Якутска, находящиеся во владении частных лиц или обществ, были экспроприированы властями или переведены под контроль государственных органов. В течение осени и зимы 1920 года кустарно-ремесленное производство Якутска перешло на выполнение государственных заданий и окончательно утратило связь с рынком. Бедственное положение кустарей усугублялось прогрессирующей гиперинфляцией590, не сравнимой с падением стоимости сибирского рубля.
Весной и летом 1921 года практика экспроприации мелкой буржуазии была перенесена в Олёкминский и Вилюйский уезды, где были образованы отделения Губкустпрома. В 1921 году в результате их взаимодействия с Губземотделом лучшая в Якутии ферма С.П. Барашкова, как и другие менее крупные хозяйства, было экспроприированы и обращены в совхозы и колхозы. Однако их доля была невелика591. Несмотря на помощь из центра592, новые организации оказались очень слабыми во всех отношениях хозяйствами. Якутский Губземотдел в 1922 г. был вынужден признать, что в созданных совхозах нет «сведущих и заинтересованных людей», что привело к падению производства.
В области кооперации ЯСНХ проводил целенаправленную политику по сокращению функций промышленного отдела союза кооперативов «Холбос», который лишился возможности формировать собственные ресурсы и проводить заготовительную работу среди кустарей и ремесленников. Следствием этого стала ликвидации кооперативного фонда промышленности и сократил производство на своих кожевенном и мыловаренном заводах593. В результате деятельности ЯСНХ маломощные, отсталые промыслы немногочисленных кустарей и ремесленников пришли к окончательному разорению и развалу, а перевод кооперативного производства под полный государственный контроль фактически разрушил местную кооперацию.
Элементом политики военного коммунизма было введение трудовой повинности. Это была подворная повинность по содержанию обывательских станций Верхоянского, Вилюйского, Охотского и Амгинского трактов. Для селений и наслегов выше Олекминска она заключалась в заготовке дров для нужд водного транспорта (7500 погонных саженей). В центральной Якутии прошла мобилизация по одному плотнику с наслега в Намской, Восточно-Кангаласской и Мегинской волостях на строительство радиостанции, ремонт школьных зданий и промышленных предприятий. Раскладка повинности в наслегах производилась совершенно произвольно и вызвала большое недовольство среди простых якутов. За отказ от гужевой повинности предусматривались административные взыскания в виде конфискации лошадей и перевозочных средств, лишения карточек на дрова.
Другим «деянием» Якревкома стала трудмобилизация якутов на Ленские золотые прииски, где ощущалась нехватка рабочих. На основании постановления Сибревкома от 4 мая 1921 года Якгубревкому предписывалось послать в Бодайбо 1000 якутов594. Это вызвало существенные волнения среди якутов трёх южных округов, где проводилась мобилизация. К середине лета годными к отправке были признаны только 533 человека из 1702. Столкнувшись с трудностями, 22 августа II съезд ревкомов Якутии без согласования с РВС V армии и Сиббюро принял решение об ограничении трудовой мобилизации 750 якутами и ввиду исключительно тяжелой обстановки запретил реквизицию конного скота по губернии, вслед за которым последовало решение Якгубревкома. Оно было воспринято якутами как отказ от трудмобилизации и началось их массовое дезертирство. 5 сентября управа «Лензолота» выразила энергичный протест, назвав постановление Губревкома абсурдным и незаконным, призывая не распускать собранный контингент и завершить трудовую мобилизацию, мотивируя это снижением плановых показателей по добыче золота.
13 сентября 1921 г. председатель губвоенкомата Э.И. Винерт назначил специальную комиссию595 для составления акта о срыве трудмобилизации. Ознакомившись с её заключением, РВС V армии отменил прежнее распоряжение о мобилизации якутов на прииски596. Благодаря излишней секретности оно не стало достоянием общественности и привело к побегам якутов из мест своего постоянного проживания. В связи с этим на заседании ревкома от 26 ноября597 приняли постановление, в котором «несознательным и политически невоспитанным» дезертирам предлагалось в период с 1 по 31 декабря добровольно вернуться в свои наслежные, сельские, волостные советы и получить амнистию. Проигнорировавшие предложение лица объявлялись «злостными труддезертирами со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Одной из форм проявления советской власти стали реквизиции у сельских богачей и кулаков. При этом силой изымались не только продукты. Об этом свидетельствует следующее постановление ревкома: «Предоставляется волревкомам право реквизиции зимней одежды и обуви на нужды: в первую очередь, рассыльных и ямщиков междудворной обывательских и почтовых станций, во вторую на нужды волостной милиции и, в-третьих, на нужды наибеднейших членов волревкомов и наслежных ревкомов. Реквизицию производить по особой инструкции в первую голову у бывших купцов и спекулянтов, во вторую, у тоенства с освобождением от реквизиции остального трудового населения». Своим решением ревком фактически санкционировал переходу имущества из рук старых «белых» тойонов, потерявших свою власть, в руки новых «красных» тойонов – советских и партийных работников. О том, что это явление приобрело широкий размах отметил Якутский ревком598 на своём заседании 7 июля рассмотрел вопрос реквизиции в г. Якутске и окрестных селах лошадей, которые были проведены «во исполнение боевого приказа центра». На этом же заседании обсуждался вопрос о необходимости принятия срочных мер для прекращения реквизиции лошадей, производимой неизвестными людьми от имени ревкома».

Делегаты II Якутской партийной конференции
Естественно, что последнее заявление являлось образцом лицемерия. Например, 5 декабря 1920 года Якутский губревком в составе председателя Н.Г. Юдина, членов М.К. Аммосова и П.А. Ойунского фактически оправдал действия виновных в бесчинствах над мирным населением председателя Таттинского волостного ревкома К.А. Сокольникова и председателя 1-го Амгинского волревкома М. Дьячковского. Они ограничились лишь устным внушением о «неправильных поступках по должности». К практике конфискаций и экспроприаций, проводимых якутскими властями, относится любопытный эпизод, происшедший в Якутске 30 июня. В этот день в Якутск прибыл из Усть-Маи пароход «Диктатор» 599, на борту которого находился отряд охотских анархистов. Партизаны везли экспроприированные ими сотни шкурок песца и 9 ½ пудов золота. Естественно, что ревком попытался изъять это имущество, чтобы пополнить свою казну. Однако, командиры отряда Сосунов и Пузырев отказались выполнять это распоряжение. Сотне хорошо вооружённых и мотивированных анархистов Якутск мог противопоставить разложившийся караульный батальон600 и плохо вооружённую милицию. После вмешательства Иркутска конфликт был мирно разрешён, и анархисты со своей добычей отправились вниз по Лене.
Внимание к вопросам национальной политики Советским правительством стало уделяться по мере продвижения РККА на национальные окраины бывшей Российской империи, когда в феврале 1920 года ВЦИК принял постановление об образовании особой комиссии по разработке вопросов федеративного устройства РСФСР601. Осуществление советской национальной политики в Сибири, где имелся «ряд малых национальностей с своеобразной культурой, историей и группировкой классов», было возложено на сформированный при Сибревкоме национальный отдел. В задачу его и подчинённых ему губернских отделов входили проведение в жизнь указаний СНК, ВЦИК и Наркомнаца и принятии мер к поднятию классового самосознания трудящихся масс, массовая агитация за советскую власть, пропаганда идей коммунизма, а также подъём экономическое и культурного уровня.