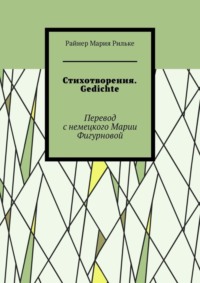Полная версия
Книги стихов
Уподоблявшийся желторотому птенцу, теперь Бог уподобляется жалкому зародышу нежеланного ребенка:
Ты, как зародыш в чреве, слаб и плох.(Зародыш еле дышит в то мгновенье,когда с тоской сжимаются колени,скрывая новой жизни первый вздох.)С недоношенным зародышем сравнивается и смерть:
…смерть – выкидыш из наших жалких лон,как скрюченный зародыш-эмбрион,зачатки глаз ладошками закрывший,свой ужас, ужасаясь, предваривший,еще не пережитое мученье,на лобике написанный фантазм,но кесарево нам грозит сеченьеи затяжной невыносимый спазм.Величайшее униженье бедности, ее крайняя степень в том, что бедняки лишены даже собственной смерти:
…чужая, маленькая смерть их ждет,а собственная – кислой и зеленойостанется, как недозрелый плод.И отсюда пронзительная мольба:
Господь! Всем смерть Свою предуготовь,чтобы в нее впадало естество,чтоб смысл в ней был, чтоб в ней была любовь.Так в творчество Рильке входит смерть, и это далеко не литература. Смерть затрагивает не только творчество Рильке, но и его жизнь, в конце концов не только прекращая ее, но совпадая с нею. Рильке открывает смерть как неизведанную, хотя и неизбежную страну, как царство, которое внутри нас. Смерть не только ужасает человека, но вдохновляет и умиротворяет его: единственное обретение, которое не требует отречения, но это должна быть своя собственная смерть, неотъемлемое достояние каждого. В этом Рильке продолжает глубинную традицию немецкой поэзии. В «Гимнах к ночи» Новалис воспевает «тоску по смерти»:
К невесте милой вниз, во мрак!Свои разбив оковы,К Спасителю, на вечный бракМы поспешить готовы.Так нам таинственная властьНа грудь Отца велит упасть.(Перевод В. Микушевича)У Новалиса смерть – «иная жизнь в могиле», воссоединение с возлюбленной, вечный брак, приобщающий к Богу. Для Рильке смерть – воссоединение с самим собой:
Дай человеку детство вспомнить вдруг,и чаянья, и смутные гаданья,с которых начинаются преданья,туманный образующие круг.Потом позволь с Твоим расстаться кладом,и смерть родить, владычицу, на свет,и все еще шуметь пустынным садомсредь наступающих примет.Постижение смерти у Рильке оказало влияние не только на поэзию, но и на философию двадцатого века. Мартин Хайдеггер при явном воздействии Рильке определит жизнь как бытие для смерти. Лишь в приближении к смерти человек находит свое подлинное, неповторимое назначение, не совпадающее с массовыми стандартами. «Мы должны быть формовщиками и поэтами нашей смерти», – говорит французский философ Морис Бланшо (Blanchot М. L’espace litteraire. Editions Gallimard, 1955. Р. 160). Отсюда же мысль о том, что человек боится смерти, так как боится потерять эту единственную возможность, которая больше не повторится.
Торжествующее единение бедности и смерти воспето в заключительном стихотворении книги, посвященном житию Франциска Ассизского (XII–XIII). Когда его отец Пьетро Бернандоне, торговец тканями, попрекнул сына тем, что тот всем ему обязан, Франциск сбросил с себя одежду, чтобы вернуть ее отцу, и епископ прикрыл его наготу своим облачением. «Книга Часов» заканчивается горестно-восторженным вопросом, подытожествующим и монашескую жизнь, и странничество, и бедность, и смерть:
Неужто с ним все в мире отзвучало?Неужто ничего не означалодарованное бедным навсегдаликующее юное начало,великой бедности звезда?4Поездке в Россию предшествовала поездка Рильке в Италию, так что перечень городов «Венеция, Флоренция, Казань, Рим, Пиза и Троицкая лавра» сохраняет лирическую актуальность в «Книге Часов», но сопоставление Руси и Италии почти всегда переходит в противопоставление. Италия для русского монаха – соблазн, преодолеваемый Богом из внутреннего мира:
На юге братья у меня в сутанахи в рощах лавровых монастыри.Какими человечными в тех странахмадонны кажутся, при Тицианах,чей Бог сияет: Посмотри!Но я подчас природу чую Божью,в себя запав;мой Бог там тьма густаяв сплетенье земляном корней несытых.Из теплоты Его произрастая,порою на ветру охвачен дрожью,не ведаю ветвей, внизу сокрытых.С этим соотносится решительное размежеванье: «Италийская ветвь древа Божьего отцвела». Но монаха продолжают привлекать итальянские художники. К Тицианам присоединяется и даже превосходит их Микеланджело:
Жил Микеланджело, ревнитель гроз.Из тамошних о нем узнал я книг.Неимоверный человек возники произрос,вдали безудержно велик.Монах как будто ревнует Микеланджело к своему Богу… или своего Бога к Микеланджело:
…над жизнью Бог его привлек;и ненавидит он и любит Богаза то, что слишком Бог далек.В образе Микеланджело угадывается другой образ, пока еще неясный для самого поэта, но в его творчестве этот образ скоро возьмет верх под именем Родена, а италийская ветвь окончательно будет привита к русскому древу, когда Франциск Ассизский, жених Бедности, приобретет черты русского странника.
За первой поездкой в Россию последует вторая, в 1900 году. Рильке продолжает называть Россию своей Родиной, но гостит он там недолго, с августа по октябрь. Из России Рильке едет в Германию и там открывает для себя еще одну землю обетованную, меньше всего похожую на землю обетованную. Эта местность между Гамбургом и Бременом называется Ворпсведе. Сам Рильке пишет о ней так: «Это странная земля. Стоя на песчаном взгорке Ворпсведе, видишь, как она расстилается вокруг, подобная тем крестьянским платкам, на фоне которых кое-где глубокими тонами поблескивают цветы. Она лежит, плоская, почти без единой складки, и дороги и русла далеко уходят за горизонт» (Рильке Р. М. Ворпсведе. С. 66. Перевод мой. – В. М.). В сущности, таков пейзаж «Книги Часов», и очерк «Ворпсведе» – прозаический комментарий к этой книге, над которой Рильке продолжает работать.
В Ворпсведе Рильке приезжает по приглашению художника Генриха Фогелера (в монографии «Ворпсведе» Рильке посвятит ему отдельную главу). Село Ворпсведе, где образовалась на время колония художников-пейзажистов, уподобилось французскому Барбизону с той только разницей, что Барбизон – лесистая, а Ворпсведе – болотистая равнина, где добывали торф. Рильке недаром ссылается в своей монографии на барбизонца Милле: «И потом вместе со стадами вступал в картину пастух, первый человек в этом невероятном одиночестве. Тихий, как дерево, стоит он у Милле – единственное возвышение на широкой равнине Барбизона» (Рильке Р. М. Ворпсведе. С. 59. Перевод мой. – В. М.). Вспоминается «Книга Часов»: «Твоим деревьям, Господи, под стать…» Но пейзаж для Рильке не есть нечто идиллическое, это вовсе не пантеистическое слияние человека и природы: «Ибо пейзаж нам чужд, и страшно одиноким чувствуешь себя среди деревьев, которые цветут, и среди ручьев, которые текут мимо» (Там же. С. 53).
Так через творчество Рильке в культурное сознание Европы вступает тема заброшенности человека в бытии, центральная тема экзистенциализма. А свое собственное одиночество Рильке в Ворпсведе пытается преодолеть. К этому времени в его отношениях с Лу наступает охлаждение, именно охлаждение, а не разрыв; Рильке вообще не были свойственны разрывы – только расставания. А в Ворпсведе он встречает двух молодых художниц, двух подруг, светловолосую Паулу Беккер и брюнетку Клару Вестхоф. По-видимому, Рильке сначала предпочитал светловолосую, но Паула Беккер вскоре заключает помолвку с художником Отто Модерзоном; Рильке делает предложение Кларе Вестхоф, и оно принято. Поэт и художница поженились весной 1901 года. В том же году у них родилась дочь Рут, единственная дочь Рильке. Брак оказался непрочным. Рильке не сумел обеспечить семью сколько-нибудь регулярным заработком. Не прошло и года, как маленькая Рут была предоставлена заботам дедушки и бабушки Вестхоф. Райнер и Клара расстались, но, как сказано, это не был драматический разрыв. Рильке продолжает писать Кларе письма. Из писем к ней составится в 1907 году монография о Сезанне.
Клара Вестхоф одно время училась у знаменитого французского скульптора Родена, и сближение Рильке с Роденом начинается под ее влиянием. Рильке пишет исследование о Родене, и в сочетании с докладом оно принадлежит к наиболее впечатляющим страницам его прозы. В 1902 году Рильке отправляется в Париж, чтобы работать над монографией о Родене, общаясь при этом по возможности с ним самим. Утомленный интенсивной работой, март и апрель 1903 года Рильке проводит в Виареджо в Италии. Там он пишет «Книгу о бедности и смерти», третью часть «Книги Часов». На русские впечатления с темой униженных и оскорбленных наслаивается тема большого европейского города. Но другие художественные воздействия уже берут верх в творчестве Рильке, и он разочаровывается в замысле «Книги Часов». Книга кажется ему многословной, экзальтированной, бесформенной. Он пишет: «Так я мог бы сочинять стихи без конца и начала» (Хольтхузен Г. Э. Райнер Мария Рильке. С. 116). Рильке явно несправедлив к едва ли не лучшей своей книге, без которой вряд ли возможно представить его творчество, однако новым влияниям он будет обязан новыми взлетами и новыми шедеврами.
Своеобразие Рильке в том, что он воспринимает влияния, исходящие не от поэтов, хотя Бодлер и Верлен, эти певцы Парижа, не прошли мимо него бесследно. После «Книги Часов» Рильке всецело под воздействием художников Сезанна и Родена; ваятель Роден, по слову Шпенглера, тоже только замаскированный живописец, с чем Рильке, правда, вряд ли бы согласился. В творчестве художника Сезанна и скульптора Родена Рильке улавливает нечто себе близкое, хотя и недосягаемое: незыблемое присутствие, непререкаемую непреложность. Немецкий искусствовед Оскар Вальцель писал об этом так: «Провозвестник будущего, Рильке одним из первых покинул позицию „искусство для искусства“, свойственную импрессионизму, позицию, которую с тех пор преодолели или постепенно преодолевают даже сами современные поэты-импрессионисты. Не довольствуясь одной только эстетической видимостью, Рильке хотел дать людям существенное» (Рильке Р. М. Ворпсведе. С. 433). Именно в этом коренится мощное воздействие самого Рильке на культуру двадцатого века, его определяющее влияние не только на поэзию, но и на философию, на живопись, даже на музыку. Поэзия двадцатого века формировалась в поисках существенного, вслед за Рильке порывая со смутными настроениями, с поэтизмами и литературными красивостями. Эту особенность поэзии Рильке четко определил Борис Пастернак, сам никогда не уходивший из-под его влияния: «Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии» (Пастернак Б. Об искусстве. М.: Искусство, 1990. С. 209). При этом творчество Марселя Пруста Рильке оценил только в 1913 году, так что художественные достижения Пруста сказались в поэзии Рильке до самого Пруста. Говоря о скандинавах, Пастернак, по всей вероятности, имел в виду Йенса Петера Якобсена, и действительно, перекличка с его прозой заметна в поэзии Рильке. У Йенса Петера Якобсена читаем: «Великая печаль наша в том, что душа одинока всегда. Нет никакого слиянья душ, все обман. С кем сольется душа. Ни с матерью, которая тебя баюкала, ни с другом, ни с женою, которую покоил у сердца» (перевод Е. Суриц). А у Рильке:
О доме больше нечего мечтать,и одиночество непоправимо,читай, пиши – все тщетно или мнимо,и только листья будут облетатьсреди пустых аллей неудержимо.Здесь подчеркнутый отказ от завораживающей музыкальности романтического стихотворения. Никакой идеализации одиночества. Только заброшенность в холодном, безучастном мире на реалистическом фоне опадающих листьев. Это не лирическое излияние из тех, которые любили класть на музыку Шуман, Шуберт и Гуго Вольф. Это четкая зарисовка, но зарисован при этом не только внешний, но и внутренний мир. Живопись распространяется и на внутреннее, недоступное живописи при ее обычных возможностях. Это и есть живописующий прием современного романиста, упомянутый Пастернаком. Именно в то время Рильке работает над своим прозаическим романом «Записки Мальте Лауридса Бригге», и его роман займет свое место рядом с «Мистериями» Кнута Гамсуна и «Улиссом» Джойса.
В силу таких живописующих и психологических приемов, по-моему, предпочтительнее назвать в переводе «Das Buch der Bilder» «Книга картин», а не «Книга образов», так как «образ» в контексте того времени нечто многозначное, зыбкое и расплывчатое, как раз то, чего Рильке избегает. Что может быть четче такой парижской картины, как выразился бы Бодлер:
Похож слепец, который на мосту,на камень межевой всегда на стражецарств безымянных, вещь одна и та же,а звезды набирают высоту,вокруг него явив свои часыструением блуждающей красы.Седой, недвижный вестник отдаленья,небытия темнеющий оплот,он в преисподнюю означил входдля мелкотравчатого поколенья.Особую весомость приобретает здесь магически притягательная для Рильке вещь, синоним существенного. Читатель встретит в «Книге картин» и царей-волхвов, идущих за звездой неизвестно куда, быть может, чтобы никогда не вернуться:
Прошли они чужбинамипорадовать глазасмарагдами, рубинамии тут же бирюза.И русских царей, и Карла Двенадцатого шведского, разбитого на Украине, и за всеми этими картинами скрывается интимно-грозная смерть, проглядывающая в эпилоге:
Смерть в нас растет,владея намиуже сейчас;когда смеемся мы временами,не знаем сами,кто плачет в нас.5«Новые стихотворения» Рильке вышли в 1907 году, «Новых стихотворений другая часть» – в 1908 году, обе части под знаком Родена, хотя это не просто и не столько Роден-скульптор, но Роден в интерпретации Рильке, Роден как негласный синоним Бога. Таким образом, через Родена Рильке влияет на самого себя.
Гёте говорил о поэзии, извлекаемой из предмета. В «Новых стихотворениях» Рильке стихотворение совпадает со своим предметом, и образуется стихотворение-вещь (das Ding-Gedicht). Скульптору должна быть ниспослана «милость великих вещей», как сказал в пятнадцатом веке некий монах будущему скульптору Мишелю Коломбу с наставлением: «Работай, малыш» (Рильке Р. М.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.