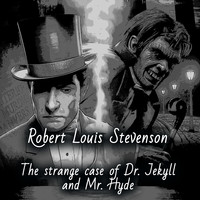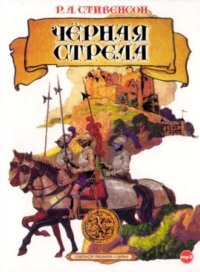Полная версия
Похищенный. Катриона
Я потерял счет времени: в смрадной корабельной утробе день и ночь были неразличимы, а часы в горестном моем положении тянулись вдвое дольше обыкновенного. Поэтому не могу сказать, сколько времени пролежал я так, дожидаясь, когда бриг разобьется и пойдет ко дну, – верно, долго, мучительно долго. Под конец я погрузился в сон.
Проснулся я оттого, что в лицо мне кто-то светил фонарем. Надо мною склонился человек лет тридцати, небольшого роста, с зелеными глазами и с копной взъерошенных рыжих волос.
– Ну что, как дела? – спросил он.
У меня брызнули слезы. Незнакомец пощупал мне пульс, виски, затем обмыл и перевязал рану.
– Да-а, эк тебя сильно. Что, приятель, побаливает? Не хнычь. Это еще не конец света. Ты скверно начал, но у тебя не все потеряно. Есть хочешь?
Я сказал, что не смогу есть, до того мне плохо. Он дал мне в жестяной кружке коньяк, разбавленный водой. Я выпил, и он ушел.
Когда меня снова пришли проведать, я лежал в полусне, с открытыми глазами; от горла как будто бы отлегло, но голова кружилась по-прежнему, и было еще мучительнее. Сверх того, я чувствовал острую боль в конечностях, веревки жгли, как огонь. Зловонный запах трюма, казалось, вошел в мою плоть; к тому же меня терзали всевозможные страхи: то вездесущие корабельные крысы обнюхивали мое лицо, касались его коготками, то наплывали жуткие, лихорадочные видения и всё кружились, кружились перед глазами.
Когда люк открылся и тьму прорезал трепетный луч фонаря, этот луч был для меня словно луч солнца с небес, и, хотя я увидел только толстые бимсы[9] моей темницы, радость моя была несказанна и я едва не заплакал. Первым по трапу спустился мой зеленоглазый знакомец; я заметил, что идет он пошатываясь. За ним следовал шкипер. Ни тот ни другой не проговорили ни слова, но первый вновь принялся осматривать мою рану, а Хозисон стал подле, устремив на меня тяжелый, недобрый взгляд.
– Ну вот, извольте убедиться, сэр, – проговорил зеленоглазый. – Горячка. Лежит здесь без света, без пищи. Надеюсь, вы понимаете, что это значит?
– Я вам не лекарь, мистер Райч, – отозвался шкипер.
– Позвольте, сэр! У вас толковая голова на плечах, да и за словом вы в карман не полезете. Но тут уж вам не отговориться. Я хочу, чтоб малого сейчас же вынесли из этой дыры в кубрик.
– Мало ли, что вы хотите, сударь, – возразил шкипер. – На судне распоряжаюсь я. Где он сейчас лежит, там и будет лежать. Здесь ему место.
– Предположим, вам за него хорошо заплатили, только осмелюсь покорнейше заметить, я, сэр, не получал ничего. Да, мне платят жалкое жалованье, а между тем я исправляю должность первого помощника на этой старой посудине. И вы прекрасно знаете, как мне достаются деньги. Я работаю! А больше мне ни за что не платят и не платили!
– Если б вы так часто не прикладывались к фляжке, у меня не было бы к вам никаких претензий, – отвечал шкипер. – Уж лучше бы помалкивали, а то все какие-то загадки да недомолвки. Пойдемте, нас ждут наверху, – прибавил он резким тоном и ступил было на трап, но в это мгновение мистер Райч схватил его за рукав:
– А если вам заплатили за убийство!
Хозисон обернулся.
– Что вы сказали?! – в гневе вскричал он. – Что за разговоры на судне?!
– Мне кажется, сэр, вы отлично понимаете, о чем идет речь, – произнес мистер Райч, твердо глядя в лицо шкиперу.
– Мистер Райч, это наше третье плавание с вами, – проговорил Хозисон. – Пора бы научиться меня понимать. Да, нрав у меня бывает крутой – что правда, то правда, – но то, что вы сейчас сказали, это оскорбительно. У вас, должно быть, злая душа и нечистые мысли. Если вы полагаете, что этот малый может умереть…
– В этом нет сомнения, – прервал его мистер Райч.
– Вы все сказали?! Так вот, переводите его куда хотите!
С этими словами шкипер стал подниматься по трапу, и я, безмолвно наблюдавший этот странный разговор, увидел, как мистер Райч повернулся и отвесил вслед Хозисону низкий поклон, не иначе как только в насмешку. Несмотря на плачевное свое состояние, я не мог не понять из этого разговора, что помощник шкипера был сильно нетрезв и что, пьяный иль трезвый, он может оказать мне неоценимую услугу.
Спустя минут пять меня освободили от пут, взвалили на чью-то мощную спину и, перенеся в кубрик, положили на койку, где в тот же миг я опять потерял сознание.
Каким блаженством показалось мне пробуждение, когда наконец-то я увидел дневной свет и людей рядом. Кубрик был довольно большой, обставленный койками, на которых отдыхали отстоявшие вахту матросы. Одни полулежали, покуривая трубки, иные спали. Ветер утих, погода прояснилась, и люк держали открытым, так что было довольно светло, а время от времени, когда «Ковенант» кренило, заглядывал и солнечный луч в облачке вьющейся пыли, которым я в восхищении любовался. Едва я пошевельнулся, один из матросов принес мне целебный напиток, изготовленный мистером Райчем, наказав лежать, покуда я не поправлюсь.
– Кости целы, рана пустяшная, – уведомил он меня. – Да, приятель, это ведь я тебя саданул.
Под надзором матросов я пролежал несколько дней и успел не только совершенно поправиться, но и завести многочисленные знакомства. Конечно, как и большинство моряков, это был народ грубоватый. Оторванные от различных ремесел, осужденные вместе скитаться по бурным морям, эти люди были суровы, жестоки, под стать своему начальству. Некоторые из них плавали прежде с пиратами и насмотрелись на своем веку такого, о чем, право, и говорить совестно. Были в команде и беглые каторжники, сбежавшие с королевских галер; теперь им грозила виселица, из чего, впрочем, они не делали тайны. Каждый из них был горяч, как порох, и под пьяную руку готов был зарезать даже лучшего своего друга. И все же, проведя с этими людьми несколько дней, я принужден был переменить о них мнение, устыдившись своего первого суждения, когда там, на молу, они представлялись мне чуть ли не все отпетыми негодяями. Нет такого сословия, которое было бы совершенно порочно: у каждого из нас есть свои достоинства и недостатки, и мои новые знакомцы, матросы, не были исключением из общего правила. Конечно, народ они были грубый и в чем-то, я думаю, скверный, но, случалось, они бывали очень добры и часто столь простодушны, что даже я, проведший всю жизнь в деревне, не мог не дивиться их простосердечию. Притом бывали у них и проблески честности.
Был среди них человек лет сорока, который часами просиживал на моей койке, рассказывая о своей семье. Прежде он был рыбаком, но, лишившись лодки, принужден был пуститься в далекие плавания. Много лет минуло с той поры, но я по сей день вспоминаю этого матроса. Напрасно ждала его с моря жена (молодка, как называл он ее); уж никогда поутру не разведет он огня в камине и не понянчит ребенка, когда жене занедужится, ибо для многих, кто был на бриге, как показали дальнейшие события, то было последнее плавание: волны да хищные рыбы поглотили их, и потому не хочется мне говорить дурно о мертвых. Право, последнее это дело.
Среди других, оказанных мне благодеяний был возврат моих денег, которые матросы еще в первый день поделили между собой; и хотя состояние мое и уменьшилось почти на целую треть, все же я был несказанно доволен, питая надежду на то, что деньги несколько облегчат мою участь в краях, куда меня насильно везли. Бриг шел к берегам Каролины. Надо заметить, что плыл я в эти места не только изгнанником. Работорговля в те времена была весьма ограничена, а после восстания колоний, с образованием Соединенных Штатов, разумеется, и вовсе прекратилась, но даже в то время, в пору моей юности, еще нередко случалось, что белых людей отправляли на плантации как невольников. Таковую участь уготовил мне негодяй-дядя.
Юнга Рэнсом (от него-то я и узнал обо всех этих ужасах) нередко приходил из каюты в синяках от побоев и то молчал, стиснув зубы, то вдруг начинал кричать, проклиная изверга мистера Шуэна. Сердце мое обливалось кровью; однако ж матросы отзывались о старшем помощнике шкипера с уважением, почитая его «единственным дельным малым среди корабельного сброда» и вовсе не таким уж дурным, «ежели не во хмелю». Действительно, оба помощника шкипера были, что называется, не без странностей. Мистер Райч в трезвом уме обыкновенно бывал угрюм, сердит и задирист, а мистер Шуэн, приложившись к бутылке, – до того смирен, что казалось, и мухи бы не обидел. Я осведомился о шкипере, но то был поистине железный человек: вино не сказывалось на его настроении.
Во время моих коротких бесед с юнгой я прилагал все старания сделать из него человека, точнее сказать, разумного малого. Увы, разум Рэнсома едва ли достоин был названия человеческого. Он не мог припомнить решительно ничего примечательного из годов, предшествовавших его выходу в море, разве лишь то, что отец его изготовлял часы с боем, а в гостиной у них жил скворец, который насвистывал песню «Северная страна». Прочие впечатления от бесконечных странствий, мытарств и побоев изгладились из его памяти начисто. Мнение о суше, почерпнутое из матросских рассказов, было у него весьма своеобразное. По его понятиям, это было гиблое место, где юношей отдавали в неволю, именуемую ремеслом, где подмастерьев каждодневно пороли, а потом запирали в зловонные подвалы. В городе, утверждал Рэнсом, половина жителей – подлецы и мошенники, а что ни дом, то западня, где матроса, того и гляди, опоят, а потом прирежут. Я, конечно, оспаривал это мнение, приводя в пример свою жизнь в Эссендине, доброе обхождение, сытный стол и приличное образование, которое дали мне родители и друзья. При этом юнга, ежели не бывал бит накануне, пускался в слезы, божился, что сбежит с брига; но, находясь в своем обыкновенном состоянии или еще того пуще, хлебнув куражу в стакане вина, начинал хохотать и отпускать насмешки.
Стакан подносил ему мистер Райч (да простит его Бог!), несомненно из самых благих побуждений; однако хмель, не говоря уж о вреде здоровью, превращал юнгу в жалкое, неприглядное существо. Печальное зрелище являл собой этот несчастный, всеми презираемый малый, когда, пошатываясь, начинал приплясывать и нести несусветную околесицу. Матросы над ним потешались, но далеко не все; иные делались мрачнее тучи, быть может вспомнив свои молодые годы, своих детей, оставшихся на берегу, и требовали прекратить безобразие. Что до меня, то мне было совестно наблюдать кривляния Рэнсома, да и по сей день он часто является мне во сне – жалкое, беспомощное создание.
Между тем «Ковенант» боролся со встречными ветрами и волнами, и качка была сильная. Люк был все время задраен, и кубрик освещался лишь фонарем, подвешенным к бимсу. Работы хватало на всех: паруса то ставили, то убавляли, и так что ни час. Напряжение сказывалось на всей команде: днем и ночью слышались брань и крики; на палубу меня не выпускали, так что можете себе представить, как опостылело мне заточение и с каким нетерпением я ожидал избавления.
И избавление это наступило. Но прежде, чем я приступлю к описанию тех событий, расскажу вам о разговоре с мистером Райчем, разговоре, одушевившем меня надеждами. Застав помощника шкипера в состоянии благосклонного опьянения (а нужно заметить, что, трезвый, он даже не глядел в мою сторону), я взял с него слово хранить тайну и поведал печальную свою историю.
Он сказал, что рассказ мой похож на балладу, но, как бы то ни было, он готов мне помочь, только прежде я должен раздобыть чернила, перо и бумагу и написать два письма: одно мистеру Кэмпбеллу, другое мистеру Ранкейлору; и тогда, если, конечно, я ничего ему не приврал, десять против одного, что удастся (разумеется, с помощью этих особ) вызволить меня из беды и восстановить в законных правах.
– Не отчаивайся, – ободрял он меня, – уж поверь, не с тобою первым такое случается. Сколько юных джентльменов должны бы, казалось, сейчас наслаждаться покоем в своих имениях. А где они? За морем, мотыжат табачные плантации. Превратности судьбы, мой друг. Жизнь пестра, как ковер, в лучшем для нас, разумеется, случае. Взять, к примеру, меня. Сын лэрда, выдержал экзамен на доктора, и что же, – как видишь, на побегушках у Хозисона.
Из вежливости я попросил его рассказать, что за история с ним приключилась.
Он присвистнул:
– Таковой не имею. Большой охотник был пошутить, вот и все.
И с этими словами он удалился.
Глава 8. Шкиперская каюта
Однажды часов в одиннадцать вечера в кубрик спустился забрать свою куртку матрос из вахты мистера Райча, и тотчас прошел по рядам слух, будто Шуэн «доконал-таки малого». В уточнениях нужды не было, все понимали, о ком шла речь. Не успели мы толком уяснить, что случилось, – люк открылся и по трапу сошел Хозисон. Несколько мгновений он пристально оглядывал ряды коек, освещенных раскачивающимся фонарем, и вдруг направился прямо ко мне.
– Вот что, любезный. Нам требуются твои услуги в каюте, – сказал он тоном почти ласковым. – Ты с Рэнсомом поменяешься койками. Ну, что ты стоишь, ступай на корму, живо!
Не успел он договорить – люк снова открылся и в кубрик сошли два матроса. Они несли Рэнсома. В эту минуту бриг резко накренило, фонарь закачался, высветив на мгновение лицо юнги, бледное словно воск, с застывшею на губах улыбкой – улыбкой мертвеца. Кровь застыла у меня в жилах, дыхание перехватило.
– Что стоишь?! Ступай, тебе говорят! – закричал Хозисон.
Я прошмыгнул мимо матросов, держащих неподвижное тело юнги, и по трапу взбежал на палубу. Бриг летел наперерез пенистой длинной волне. Мы шли правым галсом[10], и слева, под шкаториной фока[11] я увидел багряный закат. Это меня удивило, ведь время было уже к ночи. Разумеется, я не мог и предположить, что мы обходили Шотландию с севера и лишь недавно, избежав опасных течений в заливе Пентленд-Ферт, вышли в открытое море между Оркнейскими и Шетлендскими островами. Мне же, проведшему несколько дней в полутемном кубрике, ничего не знавшему о встречных ветрах, представлялось тогда, будто мы уже прошли половину пути и находимся где-то посредине Атлантического океана. Подивившись позднему закату, я, однако, не придал ему никакого значения и тотчас побежал дальше по палубе, увертываясь от захлестывающих волн, то и дело хватаясь за леера[12]. Еще немного, и меня смыло бы за борт. Хорошо, на помощь подоспел матрос; он и раньше выказывал ко мне расположение.
Шкиперская каюта, где предстояло мне спать и прислуживать, возвышалась над палубой футов[13] на шесть и для торгового брига была довольно большой. В ней размещались стол, скамья и две койки: одна – шкипера, другая – его помощников, которые спали на ней поочередно, отстояв свою вахту. По стенам снизу доверху крепились рундуки[14] и шкафчики, в которых хранилось имущество судового начальства, а также часть судовых запасов. Внизу находилась кладовая, куда можно было войти через люк посредине каюты. Там размещалась добрая часть провизии и весь порох. Все огнестрельное оружие, исключая разве две медные пушки, стояло в козлах у задней кормовой стены. Бóльшая часть кортиков находилась в другом месте.
Днем освещали каюту световой люк и небольшое окно со ставнями изнутри и снаружи, а с наступлением сумерек засвечивалась лампа. Она горела и в ту минуту, когда я вошел, не очень ярко, однако же и не тускло, то есть именно так, что я мог разглядеть мистера Шуэна, сидевшего за столом в обществе бутылки коньяка и жестяной кружки. Он был высокого роста, широкоплеч и очень черен. Он глядел на бутылку с видом совершенного отупения.
Мистер Шуэн меня не заметил. Он даже не пошевельнулся, когда вошел шкипер и, став у койки подле меня, устремил на него суровый взор. Я боялся Хозисона как огня, у меня были на то причины, но в эту минуту я понял, что сейчас мне нечего его страшиться.
– Что с юнгой? – прошептал я.
Он покачал головой, как бы говоря, что не знает и знать ничего не желает; лицо его было очень сурово.
Вскоре в каюту вошел мистер Райч и, бросив на шкипера значительный взгляд, по которому без слов стало ясно, что юнга умер, стал подле нас, и теперь уже мы втроем молча глядели сверху на мистера Шуэна, а тот, в свою очередь так же молча, сидел неподвижно, потупясь, уперев глаза в стол. Внезапно рука его потянулась к бутылке. Тогда мистер Райч шагнул вперед и вырвал бутылку у мистера Шуэна движением не столько грубым, как неожиданным. Он закричал, что больше так продолжаться не может, что бриг и так весь запятнан кровью и что его, то есть бриг, ожидает возмездие. С этими словами он бросил бутылку в море, через наветренное окно, ставни которого были открыты.
Мистер Шуэн сразу вскочил на ноги. Красные глаза его были мутны, но в них сквозила лютая злоба. Он готов был убить мистера Райча и убил бы сию же минуту, загубив в тот день и вторую душу, но тут меж ним и его жертвой стал Хозисон.
– Сесть! – вскричал шкипер. – Пьяная свинья! Вы хоть знаете, что вы наделали? Вы отправили на тот свет юнгу.
Мистер Шуэн, казалось, все понял; он тотчас опустился на стул и понурил голову, оперев ее на свою тяжелую руку.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Эсквайр – почетный титул дворян. (Здесь и далее прим. перев.)
2
Лэрд – титул землевладельца в Шотландии.
3
Тиара – корона папы римского.
4
Ковенант – название соглашений сторонников Реформации в Шотландии, заключавшихся в XVI–XVII вв. для защиты кальвинистской церкви и независимости страны.
5
Линек – короткая корабельная веревка с узлом на конце.
6
Банка – сиденье в лодке.
7
Брасопить реи – поворачивать реи брасами, особыми снастями, в горизонтальном направлении.
8
Грот-рей – поперечный брус у нижнего паруса грот-мачты.
9
Бимс – поперечная балка, поддерживающая палубу.
10
Галс – курс судна относительно ветра; например, правым галсом, т. е. оно обращено к ветру правым бортом.
11
Шкаторина – кромка паруса, обшитая веревкой. Фок – нижний прямой парус на передней мачте (фок-мачте), крепящийся к фок-рею.
12
Леер – туго натянутая веревка, закрепленная с обеих сторон, применяется для крепления косых парусов и как приспособление, предохраняющее от падения людей за борт.
13
Фут равняется 0,3048 м.
14
Рундук – закрытые нары для разной поклажи на судне.