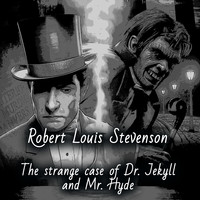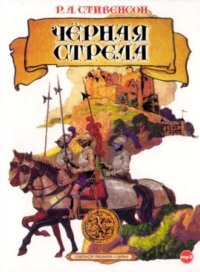Полная версия
Похищенный. Катриона

Роберт Льюис Стивенсон
Похищенный; Катриона
© И. Гурова (наследник), перевод, 2017
© С. Леднев, перевод, 1987
© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®
Похищенный
Записки о приключениях Дэвида Бальфура в 1751 году, о том, как он был похищен и потерпел кораблекрушение; о его страданиях на необитаемом острове и странствиях в горах Шотландии; о том, как он познакомился с Аланом Бреком Стюартом и другими известными якобитами-горцами, и обо всем, что он претерпел от своего дяди Эбинизера Бальфура, присвоившего себе поместье Шос, – записки, составленные им самим и ныне изданные Робертом Льюисом Стивенсоном.
Посвящение
Дорогой Чарлз Бакстер! Если тебе когда-нибудь доведется прочесть эту книгу, то, по-видимому, у тебя возникнет столько вопросов, что я едва ли смогу удовлетворить твое любопытство. Так, наверное, ты будешь недоумевать, почему вдруг убийство в Аппине ни с того ни с сего перекочевало в 1751 год, почему вдруг Торрэнские скалы переместились так близко к Эррейду, а в материалах суда нет ни единого слова о Дэвиде Бальфуре. Я, право, не в силах ответить, почему так вышло. Но если ты вдруг усомнишься в виновности или ж, напротив, невиновности Алана, то тут, как мне кажется, я смогу постоять за свое повествование. Тебе нетрудно будет удостовериться, если ты побываешь в Аппине, что народное предание и поныне весьма благосклонно к Алану Бреку. Расскажут тебе и о потомках убийцы; однако, сколько бы ты ни допытывался, ты не услышишь его имени, ибо горцам дороги тайны и они умеют хранить их. Я мог бы пуститься в бесконечные разъяснения, соглашаясь или не соглашаясь со всевозможными замечаниями, но честнее будет признаться сразу, что я отнюдь не стремился в этом романе к исторической достоверности. Предназначен он вовсе не для того, чтобы пополнить собрание томов в библиотеке ученого, а для юных читателей, для чтения зимними вечерами, когда занятия в классах уже окончены и близится пора сна. В новом своем воплощении честный и верный Алан – скандально известный бретёр того времени – изображен у меня с единственным дерзким намерением, а именно: отвлечь какого-нибудь юного джентльмена от чтения Овидия и перенести его хоть на миг в Горную Шотландию минувшего века с тем, чтобы засыпал он с приятными, сладкими грезами.
Что до тебя, дорогой Чарлз, то я не смею даже надеяться увлечь тебя этой книгой. Но быть может, она понравится твоему сыну, когда тот подрастет. Быть может, его хотя бы обрадует имя отца на титуле, а пока я с удовольствием ставлю имя твое в посвящении к роману в память о многих счастливых и немногих печальных днях нашей юности, с одинаковой теплотой хранимых в сердце. Если я, отдаленный временем и пространством от этой светлой поры, с удивлением вспоминаю наши с тобой приключения, как же странно, как удивительно вспоминать их тебе, – тебе, который ходит по тем же памятным улицам, который в любой день может переступить порог старой читальной залы, где нас теперь начинают ставить рядом со Скоттом, Робертом Эмметом, бесславным, но столь любезным сердцу Макбином, – тебе, который может посетить тот уголок, где собиралось и пило пиво наше шумное общество, восседая на тех же местах, на которых некогда сиживал Бернс со своими друзьями. Я представляю себе сейчас, как ты идешь по этим местам, созерцая при свете белого дня то, что твоему другу предстает лишь ночью, в грезах и сновидениях. О, как посреди текущих дел и забот отзывается, верно, в твоей душе былое! Пусть же как можно чаще отзывается в ней память о твоем друге.
Р. Л. С.Скерривор, Борнмут
Глава 1. Я отправляюсь в поместье Шос
Рассказ о своих приключениях я начну с того самого утра в начале июня 1751 года, когда в последний раз я перешагнул порог отчего дома. Солнце уже осветило вершины холмов, и к тому времени, как дошел я до дома священника, в кустах сирени в саду распевали дрозды, туман, застилавший долину, начинал расходиться и таять.
Эссендинский священник, мистер Кэмпбелл, поджидал меня у садовой калитки. Он спросил первым делом, не хочу ли я подкрепиться, и, услыхав, что я уж позавтракал, с чувством, обеими руками пожал мою руку и, завладев ею, пошел, увлекая меня за собой.
– Ну, Дэви, – сказал он, – пойдем провожу тебя до брода, выведу на дорогу.
Какое-то время мы шли рядом, не говоря ни слова.
– Жаль, верно, тебе покидать Эссендин? – прервал молчание мистер Кэмпбелл.
– Трудно сказать, сэр, – отвечал я. – Если б я знал, куда я иду и что ожидает меня впереди! Эссендин, конечно, это прекрасно. Здесь прошли лучшие мои дни, но ведь, кроме Эссендина, я нигде не был. Родители мои умерли, и души их равно далеко что отсюда, что от Венгерского королевства. Сказать по правде, я уходил бы отсюда с большей охотой, если бы мог надеяться, что достигну некоторого положения в свете.
– Ну что ж, коли так, Дэви, я скажу, что́ тебя ожидает, приоткрою завесу твоего будущего, насколько, конечно, в моей власти предрекать будущее. Когда умерла твоя матушка, твой отец (о, это был достойный христианин!) загоревал и, предчувствуя, что близок и его черед, передал на хранение мне письмо, в котором, по его словам, заключается твое наследство. «Когда я умру и мое имущество распродадут (как ты знаешь, воля покойного была исполнена), передайте, – говорит, – это письмо сыну и отправьте его в поместье Шос, что в крамондском приходе. Там я родился и хотел бы, чтоб сын возвратился в родные края. Юноша он благоразумный, ноги у него скорые, я уверен, что он доберется благополучно и придется там ко двору».
– В Шос? – воскликнул я в удивлении. – Но помилуйте, мой отец был беден. При чем тут он и поместье Шос?
– Э, кто знает, кто знает, Дэви, – сказал мистер Кэмпбелл. – Видишь ли, у владельцев поместья та же фамилия, что и у тебя. Бальфуры из Шоса принадлежат к старинному, доброму, почтенному роду, который в последние годы, как видно, угас. К тому же, заметь, твой отец был хорошо образован, как, впрочем, и подобало человеку его положения. Каким он был школьным наставником! Таких теперь уж не сыщешь. Его манеры и речь изобличали в нем благородное происхождение, и он нисколько не походил на обыкновенного деревенского учителя. Ты помнишь, он часто бывал у нас в доме, и я да и родственники мои – Кэмпбеллы из Килреннета, из Дансвайра, из Минча – находили чрезвычайное удовольствие в беседах с ним. А в довершение сказанного вручаю тебе завещательное письмо твоего батюшки. Царство ему небесное!
С этими словами он дал мне письмо, на котором рукою отца было начертано следующее: «Эбинизеру Бальфуру, эсквайру[1], в собственные руки. Податель сего – мой сын, Дэвид Бальфур». При мысли о блестящей будущности, ожидавшей меня, семнадцатилетнего юношу, сына бедного деревенского учителя из Этрикского леса, я почувствовал, как трепетно забилось во мне сердце.
– Мистер Кэмпбелл, – пробормотал я, – если бы вы были на моем месте, вы бы пошли туда?
– Ну конечно пошел бы, – воскликнул священник, – и притом не медля. Да с твоими ногами я бы уже на вторые сутки был в Крамонде. Это неподалеку от Эдинбурга. В худшем случае, если твои именитые родственники (а я все же склонен думать, что Бальфуры из Шоса тебе родня), если они вдруг выставят тебя за порог, что же… два дня пути, и ты опять здесь. Помни, в моем доме тебе всегда рады. Впрочем, надо полагать, тебя хорошо примут и со временем, как знать, ты добьешься и богатства, и почестей, что и прочил тебе покойный твой батюшка. А сейчас, сын мой, дабы облегчить наше расставание, почитаю долгом предостеречь тебя от опасных соблазнов, коих так много на этом свете.
С этими словами он посмотрел вокруг, где бы присесть, и, заметив придорожный валун у березы, сел с нахмуренным видом, вытянув губы, и накрыл носовым платком сдвинутую набекрень треуголку, потому что солнце, зависнув меж двух холмов, светило теперь нам прямо в лицо. Затем, подняв кверху указательный палец, мистер Кэмпбелл стал с важностью говорить о том, сколь опасны всевозможные ереси, к которым, впрочем, я и не думал склоняться, и о том, что лучшее средство от искушения – это молитва и чтение Библии. Далее он расписал в ярких красках богатый, большой дом, в который мне предстояло явиться, и посоветовал, как вести себя с его обитателями.
– Будь уступчив в делах несущественных, – говорил он. – Помни, что хотя в твоих жилах и течет благородная кровь, но воспитан ты все же в глуши, в деревне. Так смотри же, не осрами нас. Дом большой, разные в нем люди, много всякой прислуги, домочадцев. Будь осмотрителен, сметлив и любезен, не болтай лишнего. Что же касается до помещика, то помни: он лэрд[2], и этим все сказано. Как говорится, у кого заслуги, тому и почет. Исполнять указания лэрда – одно удовольствие, а для юноши так только во благо и в поучение.
– Быть может, вы правы, сэр, – отвечал я. – Как бы то ни было, обещаю следовать вашему совету.
– Вот и прекрасно! – воскликнул священник. – А теперь займемся делами не столь существенными, вернее, позволю себе каламбур, не столько существенными, сколько вещественными. Вот здесь у меня четыре вещицы. – С этими словами он запустил руку в карман своего плаща и не без некоторого усилия извлек из него небольшой пакет. – Одна из них принадлежит тебе по праву наследования. Это деньги за книги и прочие вещи твоего покойного батюшки. Я купил их, как я уж тебе говорил, с тем чтобы с выгодой перепродать новому школьному учителю. Затем подарки от меня и от миссис Кэмпбелл. Хочу надеяться, они придутся тебе по душе. Первый, круглый, вероятно, тебя особенно обрадует. Но, сын мой, помни: это что капля в море. На первых порах он, конечно, тебе поможет, но смотришь, и нет его – растаял, как утренний туман. Второй же, четырехугольный, исписанный буквами, сослужит тебе добрую службу до конца дней твоих, как служит посох страннику или подушка – больному. Ну а последний, кубической формы, будет хранить тебя до конца на пути истинном. Хочу надеяться, что так оно и будет.
Произнеся эту речь, он встал, снял шляпу и, с видом необыкновенно взволнованным, помолился за юношу, отправляющегося на поиски своего счастья, потом вдруг обнял меня, порывисто отстранил и поглядел мне в глаза с выражением глубокой печали. Затем, быстро повернувшись на каблуках, он обронил в слезах последнее «прощай, Дэви!» и скорой, пружинистой походкой зашагал восвояси. Иной, быть может, и посмеялся бы над этим; мне же, однако, было тогда не до смеха. Я все смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду; он так ни разу и не обернулся. Я подумал, как же, верно, он опечален, расставшись со мной, и мне стало стыдно – ведь в глубине души я очень был рад сменить деревенскую глушь на поместье, где царит оживление, где живут богатые и знатные мои однофамильцы, с которыми я состою в родстве.
«Дэви, Дэви, – укорял я себя, – откуда такая черная неблагодарность? Неужели при одном лишь упоминании знатных родственников ты готов забыть своих старых друзей и все то доброе, что они для тебя сделали?»
Я сел на валун, на котором только что сидел мой добрый учитель, и развернул пакет с подарками. Что мистер Кэмпбелл назвал кубическим, оказалось, как я и думал, карманною Библией. Вслед за ней я достал из пакета шиллинг, так называемую круглую вещь, а затем и третий подарок, долженствовавший хранить меня от недугов, – пожелтелый лист плотной бумаги, на котором красными чернилами было старательно выведено:
Ландышевая водаНастоять цветы ландыша на сухом вине и принимать по ложке, а то и две в день, смотря по надобности. Возвращает дар речи при параличе языка, помогает при сердцебиении, споспешествует укреплению памяти. Цветы же ландыша положить в банку, плотно умять и опустить в муравейник. По прошествии месяца банку извлечь и собрать в пузырек влагу, выделенную цветами. Исцеляет всякие недуги. Принимать надлежит лицам любого возраста, мужского, равно как и женского пола.
А ниже рукою священника было приписано:
При растяжении суставов втирать, а при коликах принимать по столовой ложке ежечасно.
Все это не могло не вызвать у меня улыбки и даже смеха, но смех, не успев зазвенеть, тотчас же оборвался: пора было отправляться в дорогу. Надев свой узел на конец палки и вскинув ее на плечо, я перешел вброд речку, поднялся на гору и, выйдя на большую дорогу, петлявшую в зарослях вереска, бросил прощальный взгляд на эссендинскую церковь и старое кладбище, поросшее рябинами, где покоились вечным сном бедные мои родители.
Глава 2. Дорога в Шос
На другой день, около полудня, с вершины большого холма я увидел обширную долину, тянувшуюся под уклон до самого моря. Долину пересекала гряда холмов; на них раскинулся Эдинбург, дымивший трубами, словно огромная калильная печь. На башне замка развевался флаг; в заливе стояли на якоре суда, а некоторые корабли шли в гавань. Мне было видно сверху отчетливо, хотя до залива было еще далеко. При виде этой величественной картины, столь непривычной для деревенского жителя, мной овладело волнение.
Я начал спускаться с холма и вскоре набрел на пастушью хижину. На вопрос мой, далеко ли до Крамонда, пастух махнул рукой, показывая влево, и я пошел дальше. Выспрашивая дорогу, я миновал Колинтон, расположенный к западу от столицы, и вышел на тракт, ведущий в Глазго. Тут, к великому моему удивлению и восторгу, я увидел солдат на марше под начальством старого генерала с багровым лицом, гарцевавшего на сером скакуне впереди колонны. За генералом следовали флейтисты, а замыкала движение рота гренадеров в высоких шапках наподобие папской тиары[3]. Бравурная музыка, блестящие красные мундиры подействовали на мое воображение, наполнив сердце восторженностью.
Довольно скоро я очутился в пределах крамондского прихода и стал теперь расспрашивать встречных, как мне попасть в Шос. Однако при этом слове на лицах людей изображалось сильное удивление. Сперва я решил, что причиной тому моя простая, деревенская одежда, изрядно запылившаяся за сутки пути. Ничуть не бывало. Получив несколько уклончивых ответов, сопровождавшихся недоуменными взглядами, я заключил, что причина, должно быть, другая. Как видно, дело было в самом поместье.
Чтобы рассеять закравшиеся опасения, я решил спрашивать по-другому, и, когда со мной поравнялась телега, на которой, держа вожжи, стоял деревенский малый, я спросил, не слыхал ли он о поместье Шос. Малый придержал лошадь и вперил в меня удивленный взгляд, какой вперяли, впрочем, и все другие, к кому я обращался с подобным вопросом.
– Как не слыхать. А что тебе за нужда?
– А большое ли это поместье?
– Да не маленькое.
– Ну а люди, много ли их там? – допытывался я.
– Люди? Да ты с ума сошел: какие ж там люди?!
– Но постой, а мистер Эбинизер?
– Ну, разве этот… Если ты к лэрду, тогда другое дело. Только на что он тебе сдался?
– Мне сказали, что у него можно получить место.
– Место?! – воскликнул мой собеседник голосом таким пронзительным, что вздрогнула даже лошадь. – Вот что, приятель, ты мне кажешься малым порядочным. Это, конечно, не моего ума дело, но вот тебе мой совет: держись-ка ты подальше от Шоса.
Вскоре внимание мое привлек человек небольшого роста, в напудренном парике, показавшийся мне цирюльником, спешившим, верно, побрить какого-нибудь селянина. Зная, что от цирюльников можно многое разузнать, ибо все они большие охотники до сплетен, я спросил его между прочим, что за человек мистер Бальфур из Шоса.
– О господи! – изумился цирюльник. – Да разве это человек?! Так, тьфу! – и тотчас начал допытываться, что за дело у меня к мистеру Бальфуру. Но на сей раз я отвечал так уклончиво, так туманно, что хитрый цирюльник ничего от меня не добился.
Однако ж можете себе представить мое разочарование. Рушились все мои надежды. Чем туманнее звучали обвинения в адрес помещика, тем больше они настораживали, тем ярче рисовало их мое воображение. Что же это за дом, если при одном его имени люди вздрагивают и глядят на тебя с недоумением. И каков, должно быть, помещик, коли дурная молва о нем ходит по всей округе! Если б до Эссендина было недалеко, я тотчас повернул бы назад к мистеру Кэмпбеллу. Но было уже поздно. К тому же глупо было отказываться от своего намерения из-за одних только слухов. Самолюбие подстрекало меня идти вперед, и я шел, несмотря на обескураживающие замечания, положив во что бы то ни стало самому во всем убедиться. Правда, шагал я уже тише, на душе у меня были недобрые предчувствия.
День медленно клонился к закату, когда, поднимаясь в гору, я завидел впереди женщину, спускающуюся мне навстречу. Рослая, полная, с загорелым угрюмым лицом, она шла тяжело, как видно, издалека. Поравнявшись с нею, я спросил дорогу в поместье Шос. Женщина резко обернулась, вызвалась меня проводить и с холма указала на большое строение слева, угрюмо возвышавшееся в глубине долины. Местность вокруг была живописна: лесистые склоны холмов, по которым сбегали ручьи, тучные нивы… Урожаи, как видно, здесь собирали хорошие. И только дом показался мне очень странным: издалека – будто развалины, ни дороги к нему, ни дымка из трубы, ни сада вокруг; все точно вымерло. Сердце во мне так и упало.
– Неужели этот? – удивился я, поглядев на свою провожатую.
Злоба вспыхнула на ее лице.
– Этот, он самый. На крови вырос, от крови заглох, от крови же и сгинет. Вот смотри, – вскрикнула она, – я плюю на него. Прах его побери. А увидишь хозяина, так и передай: в тысячу двести пятнадцатый раз Дженнет Клаустон посылает ему проклятие. Будь он проклят – он, его дом, конюшня, гости его, жена и все его дьявольское отродье! Страшной, страшной будет его погибель!
Тут моя провожатая, проговорив это, будто черное заклинание, повернулась и вмиг исчезла, точно ее и не было. Я опешил, волосы мои стали дыбом. В те времена еще верили в колдовство и ведьм, и проклятия повергали людей в трепет. Тирада, произнесенная незнакомкой, прозвучала как последнее предостережение; еще было время одуматься, отказаться от честолюбивых помыслов, еще было время вернуться.
Я сел у обочины и стал смотреть на усадьбу. Чем долее я глядел, тем больше нравилось мне это место. Кусты боярышника, усыпанные белым цветом, на лугах мирно пасутся овцы, вот в небе с гомоном пролетела стая грачей. Да, природа здесь благодатна и земля щедра. И только дом, уродливый, мрачный, вызывал у меня неприятные чувства.
Между тем с полей начали возвращаться крестьяне. Сидя у обочины, погруженный в раздумье, я даже не поздоровался с ними, как того требовал деревенский обычай. Солнце зашло, и на блеклом небе обозначился сизый дымок, плывущий со стороны дома. Издали он казался не больше, чем пламя свечи, но, что ни говори, где дым, там и огонь, а значит, домашний очаг, ужин. Есть, стало быть, в доме живые люди. Мысли эти сильно меня ободрили, как не ободрила бы, пожалуй, даже целая бутыль ландышевой воды, которую так превозносил мистер Кэмпбелл.
В траве я разглядел тропинку, ведущую к дому, до того неприметную, что даже не верилось, что по ней ходят; однако ж другой я не видел, – верно, ее и не было. Тропа привела меня к обветшалой каменной арке с облупившимися колоннами и гербом. Рядом стояла сторожка привратника, только почему-то без крыши. Ни кованых железных ворот, ни садовой ограды, ни подъездной аллеи – ничего этого не было. Виднелась дощатая калитка, привязанная жгутом, которой, видно, никто не пользовался, а тропа, огибая колонны справа, уходила во двор.
Чем ближе подходил я к дому, тем мрачнее и безобразнее он мне казался. На вид это был и не дом вовсе, а только одно крыло незавершенной постройки. Средняя часть строения тоже была недостроена и наверху сквозила маршами лестницы. Всюду, куда ни глянь, зияли пустые глазницы окон; лишь кое-где были вставлены стекла. Слепые окна облюбовали летучие мыши. Они залетали в дом, как голуби на голубятню.
Между тем начало смеркаться. В трех нижних узких решетчатых окнах, расположенных довольно высоко, замелькал огонек.
Так вот какой дворец уготовила мне судьба! Ужели в нем, в этих стенах обрету я друзей, сбудутся мои надежды на блестящую будущность?! Даже в Эссен-Уотерсайде, в доме, где жил мой отец, и то не жалели огня, не тушили свеч по ночам, чтобы путник, сбившийся с дороги, мог отыскать приют для ночлега. Свет в нашем доме, бывало, виднелся за целую милю.
Осторожно я подошел к крыльцу. В доме гремели посудой, затем раздался сухой отрывистый кашель. Прошла минута, кашель затих, но никаких голосов я не расслышал, не было и собачьего лая.
Дверь, сколько я мог различить в сгустившихся сумерках, была дубовая, чрезвычайно массивная, обитая чуть не сплошь гвоздями. Собравшись с духом, я постучал. Никто не отозвался – в доме все замерло, одни летучие мыши откликнулись на мой стук и закружили над головой. Я постучал снова – опять тихо. Теперь, напрягая слух, погружаясь в безответную тишину дома, я уловил, как тикают часы за дверью, но все по-прежнему было глухо, как будто там, внутри, люди затаили дыхание.
Я стал раздумывать, уж не дать ли мне тягу, но тут меня взяла злость, и я изо всей силы руками, ногами стал колотить в дверь, зычным голосом клича хозяина. Моя настойчивость увенчалась успехом. Сперва я услышал наверху кашель, а затем, отпрянув от двери и взглянув на окно, увидел в нем высокий ночной колпак и нацеленный на меня мушкетон.
– Он заряжен, – предупредил меня голос сверху.
– У меня письмо к мистеру Эбинизеру Бальфуру. Могу ли я его видеть?
– А от кого письмо-то? – спросили сверху.
– Вам что за дело! – воскликнул я, не в силах удержать гнева.
– Хорошо, положи его у порога и можешь убираться ко всем чертям.
– И не подумаю! – возмущенно воскликнул я. – Я вручу его мистеру Бальфуру, как мне и было велено. Это письмо с рекомендацией.
– Что? Что такое? – визгливым голосом переспросил человек в колпаке.
Пришлось повторить.
– А кто ты такой? – после долгой паузы спросил он.
– Я не стыжусь своего имени. Меня зовут Дэвид Бальфур.
Только я проговорил это, послышался отрывистый стук мушкетона: человек наверху уронил его на подоконник. Мне показалось, что незнакомец вздрогнул. Последовало напряженное молчание.
– А что, твой отец неужто умер? – странно изменившимся голосом спросил он.
Перемена была столь разительна, что я смешался и не ответил ни слова.
– Да, как видно, умер, – продолжал человек в колпаке. – Иначе зачем бы ты стал осаждать мой дом, ломиться в двери. – И, помолчав немного, прибавил язвительным тоном: – Что ж, так уж и быть, впущу.
Проговорив это, он скрылся.
Глава 3. Я знакомлюсь со своим дядюшкой
Вскоре послышались скрежет цепочек, лязг отодвигаемых засовов. Дверь осторожно приотворилась и сразу захлопнулась, едва я успел переступить порог.
– Ступай на кухню, да смотри ничего не трогай, – сказал человек в колпаке и принялся тщательно приводить в порядок свои оборонительные приспособления, защелкивая одну за другой цепочки и задвигая засовы. В темноте ощупью я пробрался в кухню.
В очаге полыхало пламя; при его свете вырисовывались голые стены и на редкость скудная утварь: с полдюжины разных тарелок и плошек на полках, на столе, накрытом к ужину, тарелка овсяной каши, роговая ложка и стакан светлого, водянистого пива. Вот, пожалуй, и все, не считая двух-трех сундуков у стены да посудного шкафа в углу. И всё на замке́. Вообразите, в обширной комнате со сводчатым лепным потолком! Отроду я не видывал ничего подобного.
Наконец, закрепив последнюю цепочку, обитатель дома вошел в кухню. Это было тщедушное, сгорбленное создание с землистым, изрытым морщинами лицом. На вид ему было лет пятьдесят, но с тем же успехом его можно было принять и за семидесятилетнего старца. На нем был фланелевый ночной колпак, фланелевый же халат поверх истрепанной рубашки, который заменял ему и камзол, и кафтан. Лицо старика покрывала густая щетина, но самое неприятное, гнетущее впечатление производили его глаза, украдкой следившие за каждым моим движением и ускользавшие от моего взгляда. Трудно было решить с первого раза, к какому сословию принадлежит этот человек, что за нужда держит его в этом доме. Более всего он походил на лакея, угрюмо доживающего свой век в сторожах и получающего за свои труды скудное пропитание.
– Что, проголодался? – спросил старик, искоса глядя в мою сторону. – Вон, на столе каша.
Я замялся, сказав, что, как видно, прервал его трапезу.
– Ничего-ничего. Я уж как-нибудь обойдусь. Выпью-ка лучше эля. Говорят, он смягчает кашель.
И, не спуская с меня глаз, он осушил добрую треть стакана.
– А ну, покажи-ка письмо, – внезапно сказал он, протянув руку.