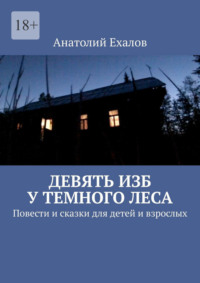Полная версия
Солнце на половицах
Например, у нас всегда гуляли Казанскую. И в этот, обычно жаркий и грозовой день, в нашу деревню сходились с окрест жители десятка деревень. Шли ребятишки и молодежь, взрослые и старики…
С раннего утра на нас накатывались расцвеченными волнами гости… С задорными частушками, гармонными переборами, балалаечными трелями…
Волна праздного народа, накатившая на деревню, тут же поглощалась домами, где хозяева поджидали гостей у накрытых столов. И совершенно не важно, из какой деревни гость переступал порог твоего дома. В этот день ты должен был принять каждого, кто б к тебе ни заходил.
Церемония встречи начиналась с подношения гостям пива в деревянной братине или медной ендове с целованием. А потом уже было застолье с пирогами, студнем, щами и тушеной картошкой, обношение водочкой и пивом. Однако засидеться за столом слишком долго не удавалось. Обычно после третьего стакана пива хозяева подавали овсяный или пшеничный кисель, что служило сигналом окончания приема. Отсюда и пословица: «За семь верст киселя хлебать…» Это когда плохо принимают, сразу кисель подают.
Гости и хозяева раскланивались и расставались. Едва успевала хозяйка перенакрыть стол, как новая волна гостей уже шумела в сенях. И все повторялось сначала…
А первая волна гостей направлялась к другому хозяину, и так шло гостевание до позднего вечера во всех домах деревни… И весь день – пляски на улице и хороводы на околице. А потом ночевали по сеновалам всем гулеванием. Тут и сказки, тут и байки, тут и с девками обнимания…
Да, затратными для хозяев получались празднички. И пиво надо сварить, и самогоночку, и скотинку завалить. Но уж зато целый год они безо всякой заботы будут ходить в праздники по соседним деревням и всюду будут желанными гостями…
…Вот и в нашем доме готовились принимать гостей со всей округи. Варились студни, готовились и коптились колбасы, из Степачихи был призван на помощь дед Сано. Он пришел со своей бабкой Паней для изготовления домашнего пива, привезя на попутной лошади новенький, светящийся липовыми боками пятиведерный бочонок.
Дед Сано был бондарем, делал бочки, кадушки, ушата, деревянные ведра, но для всей округи он был признанным пивоваром. Детей у них с бабкой Паней не было, дочка погибла в лесу на лесозаготовках, поэтому вся их нерастраченная любовь перешла на меня, когда мы квартировали в их доме за отсутствием собственного жилья.
Дед Сано с бабкой Паней готовы были выполнять любую мою прихоть А еще научил меня дед петь частушки, среди которых были и политические, и озорные. Но тогда петь политические частушки уже было не так страшно:
Пошла в колхоз,Юбка новая,Из колхоза пришла баба голая……На пиво в колхозе было закуплено полмешка ржи, которую три дня дед Сано замачивал в родниковой воде, потом раскладывал на столе на брезент, и крытая половиком она прорастала зелеными росточками при помешивании, чтобы не спарилась, три дня.
Потом эта рожь томилась на печи, собранная в кучу и закрытая фуфайками. Дед говорил, что это самый важный момент. Рожь, прея в тепле, набирала сладости. Потом осоложенная рожь уже открытая сушилась на печи и в нежаркой печи, отчего она принимала темно-коричневый цвет. Потом дед Сано молол ее крупно на ручных жерновах, а бабка Паня окладывала готовый солод в огромный пивной горшок. Дно горшка было выложено соломой, которая служила фильтром. Внизу горшка было проделано отверстие, заткнутое деревянной тычкой. Готовый солод заливали родниковой водой и ставили в горячую печь. Сусло доходило в печи до кондиции часов двенадцать.
Потом дед вытащил жбан на шесток, установил желоб. Наконец, тычка была вытащена, и густое темно-коричневое сусло тугой струей ударило в большой эмалированный ковшик, которым бабка Паня перехватила сусляную струю: «А ну-ка, Толюшка, отведай сладенького суслица…» Да, это было вкусно до изумления. До сих пор мне кажется, что никаких напитков вкуснее я не пробовал за всю свою жизнь. Бабка Паня, помню, варила пшеничный кисель и, заправляя суслом, хлебала его, похваливая.
А дед продолжал колдовать с пивом. Корчага с суслом осталась остывать на шестке до утра. Потом дед добавил в нее хмель и снова отправил в печь, которая на этот раз топилась. Через час корчагу снова извлекли и спустили взвар по лотку в бочонок, который отозвался в пустоте своим веселым звоном.
Бабка Паня готовила оголовок. Когда я вырос большой, то не раз принимался варить домашнее пиво сам. Разное оно получалось у меня. Знающие люди говорили, что все зависит от качества ржи. Если она выращена без химии, на навозе, то сусло получается сладким, густым. Такое сусло не требует добавления сахара и большого количества дрожжей… А получается мягким, ласковым, и человек с него не дуреет, а становится веселым, радостным и добрым…
Так что, когда оголовок делаешь, важно меру выдержать. Вышло у нас из половины мешка ржи четыре с лишним ведра пива. Целый бочонок. Оголовок влили в пиво, которое дня два ходило открытым, а потом дед поставил крышку и закрыл круглое отверстие в ней деревянной пробкой.
После этого бочку выкатили в сени, и дед с бабкой вернулись до праздника домой.
Днем родители уходили в школу, оставляя меня одного. Я выходил в коридор, прикладывал ухо к бочонку и слушал. Пиво было живое. Оно тоненько попискивало, тихонько бурчало, пошумливало. Наконец, я решился попробовать его. Принес из горки стопку, выкачал деревянную пробку, бочка сыто охнула, и моя рука со стопкой как раз вошла в отверстие. Я зачерпнул стопкой пива и осторожно вытащил его на волю…
Содержимое бочки пахло хмелем и хлебом и еще чем-то волнующим, но незнакомым. Я выпил. Было сладко, горьковато и удивительно вкусно. Тотчас ударило в нос и в голову. Стало как-то легко и весело. Я опустил руку со стопкой в отверстие крышки и снова зачерпнул пива. Но на этот раз стопка задела за край и выскользнула из пальцев. Я не огорчился. Стопок в горке оставалось много. Я побежал за новой.
Когда дня через три в гости к нам приехал брат моей матери дядя Женя, мать звала его Енькой, и мы остались одни, я решил угостить его пивом. Еще две стопки ушли на дно бочонка. Вечером мать забила тревогу:
– Да что же это такое? Стопки исчезают на глазах. Как гостей принимать будем? Я умоляюще поглядел на дядьку Женю. И он не предал меня. Он только сказал:
– А ты попробуй покачать пивной бочонок.
Бочонок качнули. Он отозвался густым утробным звоном стекла. Почти все стопки были в нем.
Против меня были предприняты соответствующие воспитательные меры. Пьяницей я не стал. Алкоголь вызывает у меня отвращение, но вот настоящее живое деревенское пиво я пью при случае с удовольствием. В меру.
…А еще помню, как варили старики по овинам общее пиво на праздник. Пиво варили в больших чанах раскаленными на огне камнями, которые переносили особыми железными щипцами. В деревне на посиделках рассказывали, как по установившейся дороге в деревню нагрянуло большое начальство в сопровождении начальника милиции. В одном из овинов и нашли они стариков, варивших пиво. Секретарь райкома топал ногами и грозился всех отдать под суд, а начальник милиции расстреливал бочки с пивом. Пиво со свистом било сквозь пулевые отверстия, набежавшие из деревни бабы визжали, мужики угрюмо молчали…
А вслед за этим пивным расстрелом начали обрезать приусадебные участки у колхозников, и люди потянулись из деревень по городам…
Первая дорога

Мы покидали деревню. Это была моя первая большая дорога.
Уезжали в никуда. Была весна. Сначала мы ехали до станции Бакланки на дровнях, которые тащил гусеничный трактор.
Дороги не было. Трактор, словно пароход, плыл по широко разлившейся жидкой грязи и гнал впереди себя волну. Я сидел на узлах, обнимая нашу собачку Дамку, которая преданно прижималась ко мне, и смотрел, словно капитан, в открывающиеся дали освобождающихся от снега пространств.
Мне грустно и тревожно. Позади нас оставался мой мир, открытый, освоенный за мои сознательные и бессознательные годы. С любимыми дедком Сано, бондарем и матерщинником, бабкой Паней, владычицей русской печи, Звёздкой, которая обогнала меня в росте и должна была скоро стать коровой. С соседкой Люськой, с которой был первый в моей жизни роман, закончившийся для нас общим позором, большим старинным домом, осколком прежней барской жизни, в котором последние три года царствовал я, окрестными лугами и полями, черноокой речкой Ухтомой с раками и язями, щуками и налимами.
Мне было все еще пять лет. Поэтому я не совсем понимал причин нашего переезда. Но, думаю, тогда моя мать поставила отцу ультиматум: «или она, или деревня».
И вот мы едем сначала в большое Пречистое, где живет бабушка Маша, где через дом – родня и свояки, где останавливаются пассажирские поезда, где есть своя пекарня, пошивочная мастерская, лесхоз, сырзавод, большая школа, больница, магазины.
Едем на временное жилье. Отец будет искать работу.
К вечеру наш гусеничный пароход притащил дровни на станцию Бакланка. Я помню высокие, гулкие своды вокзала, такое же гулкое слово «перрон»…
Уже в сумерках из лесных чащоб появилось огнеглазое, сыплющее искрами, окутанное облаками пара чудовище. Раздался оглушающий гудок, от которого душа моя провалилась в пятки. Дамка, сидевшая у меня на руках, рванулась и с визгом унеслась прочь.
Открылась дверь вагона, и проводница сказала строгим голосом:
– Побыстрее, граждане пассажиры. Поезд стоит одну минуту!
Отец подхватил меня на руки и подал проводнице.
Следом полетели узлы.
– Дамка! – кричал я не своим голосом. – Дамка осталась!
Но паровоз снова оглушительно свистнул, выпустил клубы пара, проводница захлопнула дверь, и поезд с лязгом и грохотом покатился в темные чащи.
– Дамка! Дамка осталась, – кричал я. – Остановитесь!
Но взрослые молчали и прятали глаза. А проводница ушла в вагон. Поезд набирал ход.
«Вот и все, вот и все, – стучали колеса. – Пропала Дамка».
Пречистое
Зареванный, я уснул в тамбуре на узлах. Ночью спящего меня притащили в большой темный дом, стоящий рядом с железной дорогой. В доме было тихо, только с улицы были слышны свистки паровозов, лязг вагонов и перестук колес.
Бабушка Маша кинулась загревать самовар, но меня не стали разбуживать окончательно, положили на печь рядом с какими-то спящими детьми. То и дело на меня клали руки и ноги, а в уши кто-то сопел. Но я не в силах был противиться этому, то и дело проваливаясь в полусон, полудрему. В избе взрослые зажгли лампу и пили чай, разговаривая вполголоса.
– Лето пусть живет у меня, – говорила бабушка, – а уж к зиме, как устроитесь, заберете.
…Утром я проснулся на печке один. Никого рядом не было. В печи потрескивали дрова, а бабушка стряпала пироги на кухонном столе и ставила противни на печь рядом со мною, чтобы пироги поднялись. Запах от пирогов, еще сырых, был волшебным. Тут были пироги с яйцами, со сметаной и картошкой…
Я скатился с печи и стал умываться из железного рукомойника, висевшего за печкой на цепочках. Рукомойник был о двух горлышках. Если его наклонять, то из одного горлышка лилась вода. Я ополоснул лицо и вытерся домотканым жестким полотенцем.
– Проснулся! – сказала ласково бабушка. – Вот и ладно.
– А где все? – спросил я недоуменно.
– Родители твои уехали по делам пригородным поездом чуть свет. Не сегодня-завтра вернутся. А сестрицы, с которыми ты на печи спал, в школу убежали.
– А Дамка? Где Дамка? – с тревогой спросил я.
– А Дамка твоя, милок, осталась в Бакланке. Вот батька поосвободится и съездит за ней. Со станции уже звонили нашим путейцам, говорят, ждет на перроне твоя Дамка. Так что не горюй понапрасну. Не пропадет она…
Настроение мое сразу взлетело до небес.
– Поиграй, пока пироги испекутся, – сказала бабушка. Я ушел в большую комнату, нашел в узлах портфель, купленный мне и собранный заранее в школу. Там был альбом для рисования, цветные карандаши, и я принялся рисовать картины вчерашнего дня: трактор с дровнями, идущий полями, паровоз с вагонами, Дамку, сидящую на перроне.
Енаша

Скоро из кухни поплыли волнующие запахи пирогов. А с улицы послышался скрип крылечных ступеней, бряканье щеколды и в дом шумно ввалился большой, грузный дядька, хромающий на одну ногу.
– Здорово, сестрица! – сказал он задорно.
– И ты будь здоров, Енаша, – сказала бабушка. – Не зарубил бы ты у меня петуха. Уж больно клевачий стал. Супу сварю.
– Жили-были рыбак да птичница, у них что ни день, то яичница. Уха и та из петуха, – отвечал весело дядька. – Сейчас недосуг, вот пойду с работы, так попробую.
– А чего тут пробовать, тяпнул и вся недолга.
– Не скажи, – возразил дядька Енаша, – у тебя вон Енька так тяпнул, что петух без головы за реку улетел, так и не нашли.
– Ну, у Еньки – одна рука.
– А у меня одна нога, – опять возразил дядька Енаша и при этом пропел частушку:
Хорошо тому живется,У кого одна нога…Сапогов не много рвется,И портошина одна…Я сидел за столом ни жив ни мертв. Воображение живо нарисовало мне картинку с летающими безголовыми петухами и гоняющимися за ними с топором безрукими и безногими мужиками.
– Пошли, давай, чаю с пирогами пить, – сказала бабушка Маша. – Хватит языком молоть. Что ты, что Енька. Барахвосты. Только бы поскалиться.
– Чай пить, не дрова рубить, – согласился дядька Енаша и шагнул в комнату.
– О-о, да у тебя гость. Никак Толька приехал, – углядел меня за столом дядька Енаша.
Кажется, я его прежде никогда не видел. Широкоплечий, с густой копной седеющих волос, большегубый, горбоносый, с веселыми глазами, он чем-то неуловимо походил на бабушку Машу.
Он передвигался как гусь, переваливаясь с боку на бок, при этом опирался на палку.
– Ну, здорово, брат! – сказал он радостно. – Приходи ко мне гулять. Я тебе кепку-восьмиклинку сошью. По последней моде. И порты под ремень. Я смотрю, ты все еще на лямках штанишки носишь… Большой уже.
Я обрадовался. Я давно уже мечтал о настоящих взрослых штанах с ремнем. И настоящей кепке, в каких щеголяли молодые парни в нашей деревне.
Дядька Енаша сразу и безоговорочно завоевал мое сердце. Я вышел провожать его и долго глядел, как он ковылял по железнодорожной насыпи к переезду. На той стороне линии была швейная мастерская, в которой уже много лет трудился закройщиком младший брат моей бабушки…
К обеду прибежали из школы две мои двоюродные сестрицы, Тонька и Валька, с которыми я спал на печи этой ночью. Их всего было у моего дядьки Саши шестеро. Шесть девок. Тонька какое-то время жила у нас в деревне. Сейчас они с Валькой жили у бабушки на станции, где и ходили в школу. Остальные были малы и жили в селе с родителями. Я их еще никогда не видел. А у дядьки Енаши было еще больше детей: девять. Я только-только начал считать до десяти на палочках.
Огурцы с хрустом
…Бабушка ушла на станцию в магазин, сестры сели за уроки, а я, обув резиновые сапоги, отправился гулять. Мимо нашего дома шла большая, убитая ногами тропа, ведущая к железнодорожному переезду.
Сразу за огородом начиналась низина, по которой с шумом несся вышедший из берегов ручей. Через ручей был сделан из просмоленных шпал мостик, но вода уже заливала этот мостик, хотя по нему еще можно было пройти в сапогах.
Я хотел было пройти по нему, чтобы оценить возможности своих сапог, как тут увидел, что с другой стороны к мосткам подходит моя бабушка со свертками и кулечками. Часть покупок она несла в сетке, а большой кулек из плотной оберточной бумаги она прижимала к себе.
– Вот, – сказала она, подходя к ручью, – купила соленых огурцов из бочки. Уж до того хрустят хорошо, что купила три килограмма. Вечером картошки наварим и станем есть ее с огурцами…
Бабушка вступила на мосток, но на середине ноги ее оскользнулись, и она, охнув, полетела в водоворот ручья. Пальто ее надулось как колокол, огурцы высыпались и кружили в водовороте.
– Спасите! – закричал я что было мочи. – Баба Маша!. – Я бросился на мостик, протягивая свою ручонку бабушке.
– Толька! Уйди! – отвечала она, кружась в водовороте. Кто-то большой уже прибежал на помощь и также протягивал ей руки, но она будто не замечала никого и ловила в водовороте огурцы, запихивая их за пазуху.
Тут я не выдержал и закричал нечеловеческим, как мне показалось, голосом:
– Бабушка! Утонешь!
Бабушка словно очнулась. Она протянула свою руку навстречу спасателям и была извлечена из ручья.
…Благо до дома было рукой подать.
Вечером мы наслаждались вареной картошкой с огурцами…
И правда, они были вкуснющи…
И тут от мостков до нашего слуха донеслась песня. Кто-то нетрезво, но очень красиво, со слезой в голосе, выводил:
Встретились ребята в лазарете,Койки рядом, а привстать нельзя…Здравствуй, брат Петруха,Здравствуй, брат Ванюха.Худы, брат, у нас с тобой дела…– О! – откликнулась бабушка. – Братец возвращается домой. Видимо, на станции в буфете мужики поднесли хорошо. Сейчас ему не только петуха не зарубить, в двери не попасть.
Между тем песня приближалась к нашему дому. Характер ее исполнения менялся, набирал твердости и агрессии:
Нас побить, побить хотелиНа высокой на горе…Не на тех вы налетели,Мы и спим на топоре…– гремел дядька Енаша.
Около нашего дома он оставил песни и перешел на прозу:
– Всех перестреляю, всех на котлеты перемелю! У меня ножик за голенищем. У меня пулемет на светелке, – громогласно заявлял он, проходя мимо крыльца, на который высыпали мы вместе с бабушкой Машей.
– Иди, иди, рожа разбойная, – говорила бабушка ему вслед. – Придешь домой, так Шура быстро тебе укорот найдет.
Дядька Енаша проследовал дальше, но, не доходя до своего дома, он сделался вдруг больным и слабым.
– Шурочка, – жалобно запричитал он, – Я заболел, Шурочка… В последний раз, Шурочка…
Мы видели, как Шурочка, маленькая, словно воробышек, выскочила за калитку и подхватила грузное тело мужа.
– Не горюй, батько, – приговаривала она. – Поправишься, коли заболел. У тебя семеро на лавках сидят, ложками стучат. Недосуг хворать…
Утром дядька Енаша появился на пороге нашего дома.
– Где Толька-то? – весело заголосил он. – Я в пять утра встал, кепку тебе сошил. Восьмиклинку, как обещал. Иди, меряй!
Я с недоверием выглянул из-за переборки. В дверях стоял совсем не тот человек, которого я видел вчера вечером. В дверях был утрешний дядька Енаша. С веселым блеском глаз. Он держал в руках аккуратную синюю кепку с околышем и клиньями, которые сходились у центра, с пуговкой, обшитой материей посредине.
Я подбежал. Дядька Енаша натянул мне на голову ладную кепочку, которая была как раз на мою голову.
– Иди, в зеркало глянь, – подтолкнул он меня в комнату. – Порты сошью следующим разом.
Я слышал, как бабушка Маша стала выговаривать своему братцу:
– Турка ты, рожа портретская! Почто ты вчера этак назюзюкался?
– Не говори, Митревна. Был грех, не рассчитал…
– Какие тебе, братец, гуленьки. Этакую орду наплодил, да еще и за стакан ухватился. Да еще это, – понизила бабушка голос. – Про пулемет-то помалкивал бы.
– А чего? И про пулемет говорил, что ли?
– Доболтаешь…
– А чего? За пьяную болтовню не садят.
– Посадить-то, может и не посадят, а пулемет украдут…
– Ладно, хорошо, – сказал задумчиво Енаша. – Пойду на работу. Отчистила ты меня под первое число. Мне Шурочка сроду грубого слова не скажет. А ты: портретская рожа…
И он ушел. Вслед ему заголосил оставленный в живых петух, взлетевший на огород.
Весна уже вступила в свои права. Солнце сгоняло последний снег в бороздах, и земля парила.
Мать-и-мачеха
– Сегодня, всяко, надо родителей твоих ждать, – сказала бабушка. – А ты иди, погуляй. Погода сегодня вёдреная. Ишь, солнце как играет, радуется.
Меня не надо было уговаривать. Я обул сапоги и был таков. В новой кепке, новых сапогах с красной байковой подкладкой, которая мне особенно нравилась. Это были не первые мои сапоги с красной подкладкой. Но подкладка эта краснела недолго, до первой лужи и грязи, в которую мне непременно нужно было залезть. И каждый раз, отпуская меня гулять, мать говорила строго: «Смотри, не лазай по канавам. А утонешь, домой не приходи…»
Я залезал. Скоро в сапогах хлюпала ледяная вода. Но идти домой было нельзя. Разве что к соседям, на печку. В деревне в каждом доме примут, как своего.
…Я выкатился на луговину перед домом, которая уже подсохла. Сквозь пожухлую траву прошлого года пробивались первые зеленые стрелки травы, а на припеке, прямо на глазах, раскрывались желтые цветы.
Это цвела мать-и-мачеха. Эту траву я знал. Одна сторона ее листа была бархатиста и тепла, как руки мамы, другая – гладкая, холодная.
Эта сторона и была, видимо, мачехой.
Что такое мачеха, я не знал. Мир вокруг меня был доброжелателен и ласков, как будто я был главным человеком на этой земле, пока какое-нибудь мое прегрешение не приводило к воспитательным мерам со стороны взрослых.
Однажды, когда все были в школе, я проник к отцу в стол, вытащил документы: военный билет, наградные бумаги, Сталинскую почетную грамоту – я помню ее хорошо, облигации, унес все в поле и там сжег. Какие соображения подвинули меня к этому акту тогда, не могу сказать, наверное в голову запали радиопостановки про партизан, но драли меня больно и долго. Обломали не одну вицу.
Видимо, я не совсем хорошо себя вел в раннем детстве, поскольку за зеркалом в большой комнате, напоминая о правилах поведения, всегда торчал набор березовых виц. Но в присутствии бабушки Маши меня никто и пальцем не мог тронуть. Иной раз ретивая моя матушка, желавшая учинить надо мной расправу за прегрешения, загоняла меня в угол, грозя вицей. Но бабушка Маша вставала на ее пути, закрывая собой:
«Не трожь! Не позволю. Не то, как возьму этот хлыст…» Мать же моя рассказывала позже, что оставшись с пятерыми без мужа, бабушка особых нежностей к детям не проявляла, бывало, и за вицу бралась. А вот во внуках души не чаяла…
…Не успел я исследовать весенний угор, на котором уже паслись наши куры во главе с петухом, как бабушка, выйдя на крыльцо, стала звать меня.
Тут я увидел, что большой, огненной раскраски петух недобро косится на меня и заходит в тыл, опустив на землю крыло.
Но я не ответил ему на вызов и побежал к дому. Оказалось, что в гости приехала дальняя родственница, тетка Маня Меньшинина. Она была высока, худа, волосы на голове у нее были зачесаны вверх наподобие водонапорной башни. Она мне сразу не понравилась. Уже тем, что не обратила на меня никакого внимания. Она и с бабушкой разговаривала высокомерно, в чем-то убеждая ее. Она была женой офицера и всячески подчеркивала это.
Где-то там, в другой области, где жили они, у нее было двое приемных детей и один свой.
«Мачеха!» – догадался я.
И вот эта недобрая тетка, как я понял из разговоров, хотела сманить моих родителей на стройку гидростанции… И это мне тоже не понравилось.
Потом мы пошли в другой конец улицы к бабушкиной товарке за квасом, чтобы сделать весеннюю окрошку с зеленым луком, перья которого уже весело торчали на грядке, и молодой редиской из парника. Картошка, яйца у бабушки были. Колбасу привезла эта надменная тетка. Вот ей и захотелось деревенской окрошки.
Про бабушкину подружку бабку Анну, к которой мы ходили за квасом, я потом обязательно расскажу. А в тот раз мы торопились, но бабушка с кем-то заговорилась по дороге, и мы вдвоем с теткой Машей пошли обратно.
Мне сильно захотелось пить. И я попросил квасу из глиняного кувшина, который несла тетка Маша. И неожиданно я получил отказ.
– Вот сделаем окрошку, если останется, попьешь, – холодно отвечала она.
– Ах, так! – рассердился я и побежал к дому.
Там у огорода стояла скамейка. Я просчитал все: тетка Маня с квасом сядет на скамейку. Я буду уже в огороде, калитку закрою с внутренней стороны на вертушок. И как только она сядет, я возьму грабли и через огород дам ей граблями по водонапорной башне.
И я дал. И дал не раз. Она вскочила и стала пытаться открыть калитку и даже просунула руку в щель. И тут я ударил ее граблями по руке. Тетка Маша взвыла и стала ругать меня нехорошими словами.
Ей удалось открыть вертушок и она бросилась за мной по бороздам. Но поймать меня было нелегко. Она была в одном конце огорода, а я уже выскочил на улицу прямо в руки моей защитницы.
– Беги, Толька, беги, – сказала она мне и подтолкнула в сторону дома дядьки Енаши.
Обиженная гостья преследовать меня не стала.
Сражение

Домик дядьки Енаши был настолько мал, что даже печка устьем выходила в коридор, чтобы не занимать место в доме. Трудно было понять, как в нем могла размещаться семья в одиннадцать человек.