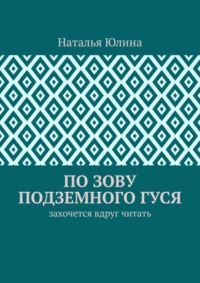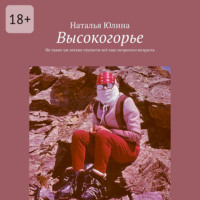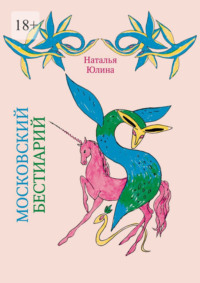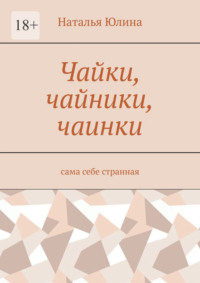Полная версия
Настоящая африканская жизнь
Алик не такой. Вменяем, разума крупною солью посыпан, но в нем деве-Катюне равновеликое чую. Вот им бы летать.
Я из другого карраса, но что-то горячее он разбудил, благостный сон мой встревожил. Чувственность? Вот гадство. Негритянские страсти прекрасны, но мавр – благородный, головой Дездемоны он стену пробить не пытался. Он сразу – душил. Алик – не Отелло, и это подарок судьбы.
Теперь, не орлица, я тихую жизнь продолжаю. Но сегодня, сегодня это фиаско. Только в приятной компании я оказалась, пожалуйста, первый день года – и снова одна.
В той квартире таинственный сумрак уставшего праздника тлеет, то смехом детей оживляясь, то вспыхнув ритмичною музыкой, – кто-то запись врубил, сон отгоняя. Музыку прочь. Костя что-то из жизни расскажет, чтоб было смешно, из той, из московской. Гитару возьмет Люба с хорошею песней, но Петя голосом звучным – будто глушителем – песню загубит, потому что без слуха. Хотелось бы с ними песни кричать и чем-то своим поделиться, но просто физически, знаю, пойти я туда не могу.
Кажется, компания оранжевыми голосами иноземных путешественников зовет меня сняться с места и куда-то лететь. Если не лететь, то идти вдаль плечом к плечу с близкими друзьями, уставиться взглядом в милые лица и смеяться, смеяться. И люди-то вокруг хорошие, но вот пробиться к ним – никак. Они друг друга понимают, пьют водку, играют в волейбол, едут в Алжир в кино или на концерт. Я могу быть рядом с ними, но никогда – одной из них.
Наверно, мне и надо быть одной, и мне это нравится, но как же хочется смеяться вместе со всеми, с теми, кто полюбил тебя хотя бы на день. Остро чувствую, что осталась одна. К ласковой Свете хочу, а иду я домой.
Теперь можно и пострадать. Вся наша литература пишется, и теперь, и раньше, чтобы пострадать. Даже трэш – он для того же: белые ро… зы, белые ро… зы.
RIEN N`EST PARFAIT
ИЗ МОЕЙ ГОЛОВЫ РАСТЕТ ДЕРЕВО
Пришла после новогоднего праздника домой, заснула.
Приснилось лето. Луг. Тропа в траве скоро исчезает. Подхожу к обрыву. Верно, карьер брошенный. Под обрывом озеро.
Спустилась на берег. И тут что-то оглушительно треснуло. Гром прокатился по стене. Крупные капли посыпались в воду.
Тучи влетают в карьер прямо на меня и исчезают сзади. Я в оцепенении не свожу с них глаз, и лишь, когда рядом ударяет гром, смотрю вниз и вижу, что вода и впрямь ощетинилась, словно выросли на ее поверхности черные жесткие волосы. И тут чувствую, что туча не ушла, осталась в карьере и теперь медленно спускается прямо на меня. Волна страха подхватывает меня и выносит из сна.
Проснулась. Сердце колотится, потом затихает.
Что это ты, говорю я себе, из-за чего? Ну, туча живая, но почему – смерть? Это выходит, что смерть живая, вот что выходит. Глупость сплошная. Это та же вера в потустороннюю жизнь. Но ведь жизнь. Как же они не видели противоречия? Интересно!
Господи, как прекрасно было людям с этой верой. Как медаль, подержал, повернул другой стороной. Если один раз повернул, то и еще раз можно. И прийти в этот мир хочешь – волком, хочешь – дельфином. Понятно, что это вздор.
Устраиваюсь поудобней, закрываю глаза… И вот иду по знакомой тропе, иду не останавливаясь.
Вот и пруд. В воду, в воду. Прикосновение воды ко всему телу и к лицу тоже – наслаждение. Вода, тяжелая и приставучая, прижмется к глазам и заговорит кошачьим голосом. Что скажешь, вода?..
– Я здесь, я везде, навсегда…
Вода – навсегда? Ерунда. Мир потому и существует, что в нем нет «навсегда». Посторонись! Дорогу свеженькому! Он всё равно лучше тебя, хоть и не похож на человека в твоем смысле. Ему нужен другой смысл. Да, тот самый, который ты зовешь дебилизмом. Тебе не понять. Он? не достоин?
Ээ… лучше не смотреть на него, теряешь чувство собственного достоинства.
Человеческое достоинство. А что это такое? Может ли человек быть недостойным того, чтобы быть человеком? Абсурд. Человек – сумма его опыта. Но не арифметическая, а комбинация с коэффициентами, данными ему природой и историей его жизни. Значит, то, что называют в нем пороком, было бы добродетелью, будь это событие на чуть-чуть побольше, а вот это на чуть-чуть поменьше. Загвоздка вся в коэффициентах, потому что мы едва ли можем их осознать. Отсюда ощущение, что не события с нами происходят, а мы по своей воле делаем выбор, своими руками строим свою биографию, я имею в виду биографию души. Значит все-таки ты и все-все – цветы?
Или у тебя претензия, что ты, то ковер, то гортензия? И зла нет? Совсем? И добра значит, тоже? Пусть бы их и не было. Пусть бы никто не сопротивлялся злу насилием, но ты-то знаешь, что зло в тебе. Зло внутри и без насилия никак. Насилие над собой – без этого не стать святым. Думаешь, станешь? А что значит быть святым? Каждый разумный человек стремится именно к святости. Если он это забыл, и забыл окончательно, последует болезнь, явная или скрытая, от которой сам человек страдает больше, чем окружающие.
Вот наши святые отцы… Нил Сорский занимался насилием над собой? Или святость дана ему природой?
Алеша Карамазов, а вдруг в нем папино сладострастие проснется? Возможно? – Значит, всё-таки насилие?
Первыми добычей чертей на некоторых иконах становятся священники. Гордыня – я выше окружающего мира – это грех, зернышко фашизма, не исчерпанного в Европе в первую очередь. Я благородный человек, а ты… извини.
Лечение от «благородства» – юродство? Юродство, в разной степени, почти во всех героях Достоевского, особенно много его в наших любимых, в самых знаменитых персонажах. Поступить себе во вред, осознанно, по непреложной надобности – это способ покаяния, это рывок к чистоте.
Толстой только декларирует стремление своих персонажей к такому очищению (уход Протасова из семьи, от «стыда»), Достоевский рисует это внутри характеров, и, если подумать, то это богоискательство.
В наше время юродивые – злые и агрессивные – бомжи. Мы извратили даже юродство. Не осталось у нас такого лекарства от фарисейства.
Может быть в том, что мы считаем себя недостойными, виноват Бог? Да, кто недостоин, так это Он. Назови Его природой или еще как, недостойна, ложна Его идея разумного существа. Вот человек глядит на небо. Оно же рядом надо мной. Наглядеться бы на небо до смерти. Щекой бы его коснуться и языком попробовать. Но где же я? Глаза бы в него вбить как гвозди, чтоб не отодрать, но где они, твои глаза?
Никак, никак тебе себя там, перед небом не отыскать. Не может человек соотнести себя с небом. Всячески его всуе поминает, дотягивается до него рукой, а соотнести не может, и небо, небо над ним совсем бесцветное.
Вот тебе и разумное существо. Все остальные существа согласны с небом вполне. Перед ними не стоит такая задача. А человек? Только и забот, что натягивать новую домотканую рубашку моральных постановлений для того, чтобы тут же начать исподтишка рвать ее на себе.
Пусть он начинает размышлять. Кто его ведет? Бог, черт, боль, страх? И до чего он додумается? Если он вооружен знанием, то, возможно, занят наукой. Исследование, проникновение в природу – поиски Бога. Любое новое знание, не ставшее общим достоянием, знание внутри головы – Бог. Но, доступное другим, оно чаще всего становится извращением, поскольку природа социума – не ангельская…
Хорошо, пусть теперь он швыряет ржавые ключи логики на землю и начинает не жить, а чувствовать. Что более пагубного можно себе представить? Он одержим идеей благостности своего состояния. Страсть – огонь. Огонь очищает. Деревянное, глиняное – футляр – сгорает. И вот она сердцевина – ангельская белизна-чистота. Здравствуй, святость. Но что это? А не болен ли он?
Это крайности, а если человек чего-то достиг, и прошел уже через крайности, то какая глубокая печаль, переходящая в оцепенение, им овладевает. Отчего? – Ложность разумного существа. Оттого и жизнь наша часто кажется нам ложной, хоть этого и быть не может на самом деле.
Вот возьми твою жизнь. Что в ней?
Думать о смерти я начала ровно в семь лет, когда восьмого июня умер мой любимый дед. После похорон мы уехали на дачу в деревню Тарычёво. Сразу за домом начинались луга и овраги. Мысли мои в одиноких прогулках по окрестным тропам я помню до сих пор. Сравнивая себя с многочисленными родственниками, кузинами и кузенами – мы летом жили все вместе – я твердо решила, что я – другая, а значит должна скоро умереть. Это не было печалью, это было тишиной. Думаю, такая работа, если началась, ее уже не остановить. Кого она из тебя делает, святого, злодея или – два притопа, три прихлопа, об этом ты получишь от жизни уведомление ближе к концу.
Выбор, несомненно, ты делаешь сама, но кто ты, вот это для тебя и тайна, бывает, выбрала одно, получила другое.
Всё. Точка. Перестань травить душу. Будь достойна своего одиночества.
Одиноки ты, я, он, она. И все не виноваты…
Пусть она идет по родному городу. В этом городе каждый шаг может вернуть тебя на два, пять, десять лет назад. Ступила, а место заколдованное. Ночь, и всё перемешано бордовой мглой. Какое время года? Сколько тебе лет? Ничто не рискует к тебе приблизиться. Твое сердце сканирует ночь, чтобы хранить ее, наверно до своего конца. И не ты ею владеешь, а, наоборот, она сама, когда и где захочет, берет тебя к себе. И ты снова, как тогда, бежишь по переходам под землею, из-под земли, в проулки мимо глухих стен. Углы домов, лобастые троллейбусы, узкоглазые фонари. А ты бежишь, чтобы всё осталось. Остановишься, и ничего не станет. Стоит ей остановиться, и всё рухнет, и обрушатся на неё стены. Но она бежит, потому что еще можно всё спасти. И знает, что спасет, потому что остался один шанс из тысячи, а это очень, еще очень много.
Вопрос в лоб. Спасла или не спасла? Но дело-то не в этом. Дело в том, что она действовала, нелепо с точки зрения здравого смысла, но действовала, не раздумывая. Оправдание действием. В тяжелой ситуации по-другому нельзя, вот в чем дело. А теперь она уже не может разучиться думать, значит, не умеет действовать, и трудности не для неё. Такие, как город. Город труден сам по себе, поэтому пусть будет деревня.
Поле. Снег. Избы. Неторопливые. Неразговорчивые. Два крыла крыши не стиснуты, не распластаны, лежат белые на черных бревнах. Лететь в небо – далеко не улетишь, а петушиться на месте – так и труда не стоит.
Лишний раз не улыбнутся, только и прогнать меня – не прогонят. Да, Брейгелевских утесов на заднем плане жаль. Нет утесов. И очень все от этого не закончено, путь вдаль бесконечен. И от этого холм, поле, я – все одиноки. Только деревья и запах мокрого снега, смешанный с дыханием печных труб. Это запах бесконечности жизни, не бессмертья, нет. Сиюминутный и вечный. Этим запахом любого человека можно вылечить, меня, например. Этот запах можно пощупать руками. Он на ощупь – соломинка. Ведешь, ведешь пальцем по шелковой трубочке, и вдруг укол и заноза. И тебе смешно, и ты не подозреваешь, что всю жизнь этот запах держится в тебе, хочешь того или нет, все равно, каким бы воздухом ты ни дышала.
Особенно силен запах по ночам в марте. И звезды над забором тоже вдыхают его. И вот-вот моргнут, и талая вода сбежит по оконному стеклу…
Ах, нет, нет, нельзя так волноваться. Это только мысль, мысль. Нет никаких капель, и ты должна держать себя в руках.
Держать себя в руках? Если кто не пробовал сходить с ума, откуда он знает, что в своем уме. Если чувствуешь блаженство, так только потому, что был ад. Я – за блаженство, пусть ад будет в нагрузку. Ведь, пока ты не вышла из комнаты, всё в порядке… Но приходит ад – и ты съеживаешься до своего крошечного тельца.
Скорее всего, совсем нет тебя. Ты не субъект. Тобою никто не заражен. Но как объект – пожалуйста. Ты – это, например, МОСКВА.
Есть такие в ней точки, что нет даже воспоминаний, только смотришь прежними глазами, как будто случайно тогда-сейчас наткнулась на знакомое место. И теплая печаль. Да скорее не молодеешь, а согреваешься. Потому что все эти места уже не те места.
Где она, Москва? На Гоголевском? Только не на старом Арбате, чужом и неприятном.
Гоголевский и точки города – маленькие окрестные площади, дома, скверы. Москвы как целого – нет. Не на что опереться, не о чем подумать. Ты одна. Капают, капают стальные минуты в духоту, тесноту комнаты. Где-то гундосят автомобили. Москва неподвижными, выпуклыми глазами козы уставилась на тебя. Чучело Москвы. А была ведь козленком. Малыш прыгал с Мытной на Серпуховку, смеялся над милицией, стоял в очередях в Ударник. Козленок вырос. Козу зарезали. Остались только карие, неподвижные глаза, по ночам они смотрят в твое окно, и доносится слабое гламурное блеяние. Пусть кого-то радует интернет, у нас – Москва с глазами козы.
Единственное, что вечно и неизменно, это метро. По вводящей кишке – эскалатору, спускаешься в огромное чрево города. Вскипает поезд. Приливная волна толпы, и ты внутри вагона. «Осторожно, двери закрываются». Несколько раз, похлопав резиновыми челюстями, двери стискиваются. Толпа, как один человек, отклоняется назад, потом возвращается в прежнее положение и замирает. Каждый уходит в себя. Может быть, может быть, за три человека от тебя стоит твой друг, потерянный 10 лет назад, или любимый, тот, которого не встретишь еще пять лет. Но ты не озираешься по сторонам. Вглядеться в соседнее лицо – это может позволить себе только чужой, тот, кто не знает самого первого закона метро. Закона не присутствия. Закона одиночества толпы. Здесь можно найти только самого себя. Поэтому, если вам тяжело с собой, пожалуйста, не садитесь в метро. Езжайте автобусом, а еще лучше, такси. Метро – это для гордых и одиноких. Здесь за ничтожную сумму денег можно повторить лучшие минуты своей жизни, или еще раз весь прожитый день, или мысленно так поговорить с кем-нибудь, что наяву, и на дневном свету, и даже в темноте вряд ли удастся когда-нибудь. Конечно, в сутолоке города метро – это лечебница. Ведь известно, что в лечебницах люди и болеют.
Лечебница – вздор. Она может стать свободной в любой момент. Безо всякой смерти. Закрываю глаза, потом их открываю, но уже не здесь.
И тут приходит она. Мама. В руках распахнутый букет черемухи. Она идет упруго, легко и не видит ее. Девочка. Скорей я теперь ей мать.
Можно даже поставить рядом маму ту и эту. Две матери, живущие на расстоянии в тридцать лет. Они смотрят друг на друга и в глазах теперешней – неодобрение. Мама с возрастом приобрела склонность осуждать тех, кто на нее не похож. Тогда пусть со мной останется молодая. Боже, как она прекрасна. Ее руки. Никогда больше я не видела таких пальцев. Они как маленькие человечки: теплые и дышат. А на правой руке на указательном пальце, если только он отойдет от остальных, вот, сейчас увижу, – родинка. Конечно, куда ж она могла деться. «Нет, нет, погоди. Дай, я еще погляжу. И если можно, можно я до нее дотронусь?»
Да, об этом я забыла. Мой палец груб и бесчувственен. Кожа на нем как кора. Верно, ты вся стала деревянной. Когда тебя отсюда выпустят, надо добраться до леса, встать там и ждать, чтоб выросли молодые побеги.
Стоя, не получится. Стоя, долго не выдержишь. Надо лечь в траву. Лечь и глядеть в небо через листья.
И тогда приходит ветер. Листва встрепенулась. Она поражена, она не знает, что делать с этими непостижимыми новостями из бог весть каких мест. Скорей, скорей избавиться от новости – передать ее дальше, дальше.
И уходит ветер. И ты понимаешь, что никакое ты не дерево. Потому что все это тобою выдумано. Тебе надо на самом деле послушать этот глубокий и замкнутый в себе шум, шум, шум.
Иначе здесь и вправду вообразишь себя деревом, а всякая навязчивая идея так недостойна деревьев. – Человеческое достоинство должно включать в себя достоинство дерева.
Хватит «философии».
Что будет здесь со мною? Во взрослые отношения с людьми вступаю под прессом «чистого разума». Тем не менее, эмоции, непреодолимо бесплодные, продолжают топить меня в своих волнах. Но критическое к себе, да и к своей любви отношение уже вышло из пеленок и не позволит растоптать здравый смысл. Всё шло так, как должно идти. Ушло моё мехматское детство. Больше нет уверенности, что силы мои бесконечны, а жизнь и создана для того, чтоб мне подчиняться. Теперь гордыня, как плохой зуб, покачивается и болит.
Ну, обойдешься, будет, будет у тебя любовь, красивая, опять смертельная, но не долгая. Ведь ты поэт, обмануть тебя ничего не стоит.
Сейчас, с высоты прожитых лет (а может быть, из глубины, или даже из ямы), я понимаю себя в то время всё меньше. По существу, по внутреннему состоянию, я вышла тогда на много лет из окружающей жизни, ушла в панки. Не бросила работу, только чтобы не травмировать маму, радовалась, что меня не двигают по служебной лестнице – минимальная зарплата, конечно, честнее, а должностное повышение – отвратительней. Что касается рабочих отношений, обязанностей, заседаний – всё казалось диким и смешным. Общение со студентами тоже считала бессмысленным. Как-то написала стихотворение, начинавшееся так: «Из моей головы растет дерево». – И дерево росло, и я знала, что студенты видят его, знала, что их головы тоже выращивали деревья.
Конечно, дерево растет и в 2021 году, хотя искривилось и сильно похужело. Но без него никак.
Мое состояние в те времена я определила бы так: пропала от любви. Читать могла только поэзию. Прозу не воспринимала никакую, кроме Достоевского. Для классики, например, Толстого, нужна глубокая осадка. Для классики подходят люди, медленно подплывающие к зрелости, старости, смерти. Для Достоевского – только раненые души. Не думаю, что таких, как я людей мало. Девочки и мальчики в любой момент могут пропасть от любви на 10 лет, да еще с возможностью продолжения. Но мы ведь не считаем себя больными. Если серьезно посмотреть на то, что у человека в жизни веселого, тут тебя печаль и скрутит.
Как от лекарств организм часто самостоятельно не может бороться с болезнью, так, выкидывая кусок жизни из памяти, мы ампутируем часть своей личности. Я говорила себе: травма должна быть изжита и раньше времени забывать нельзя. Это – в некоторые моменты. Но много чаще, я надеялась, что ОН вернется… Хотя это тоже не правда – не может быть правдой свидетельство очевидца. Я всегда знала, что его возвращение невозможно потому, что моя к нему любовь не лежит в реальной плоскости. И прощать предательство я не умею. И назвать предательством всё, что произошло, мне не приходило в голову.
Как не было тебя давно, ты – Осень,
сладкий мертвый воздух,
где света слабое вино расходуют в ничтожных дозах,
и час за часом маята плодит пустоты в мелких ветках,
и вечно юная мечта свой смысл приоткрывает едкий,
ANETTE
АНЕТТА
Дома сидеть неприятно. Раз к Свете нельзя, попробовать к Анне?
Иду однажды с работы, из ближней виллы выскакивает высокая блондинка в чем-то ярко-зеленом, воздушном и кричит мне: «Мы тоже из Москвы, из вашего вуза. Меня зовут Аннета». Так мы познакомились. Она из нежно-рыжих. Настоящие рыжие блондины, белоснежные и веснушчатые, всегда казались мне обнаженными. Хочется надеть на них какой-нибудь балахон, на голову шляпу, чтоб солнце не ранило, самих же поместить в защитный бункер.
Дома Анна служила в музее, возможно, в Кремле. Манера говорить, смеяться, походка и жесты – всё казалось слегка театральным, надуманным, женским чрезмерно. В Алжирской глубинке кто это мог оценить? Технический вуз – то ботан, то чиновник. Не чувствуют люди, не развит их вкус, искусство не ценят.
Только Аня кого-то найдет, свечку зажжет, понадеется жизнь обрести, хлоп, погас огонек, темно, неуютно и хочется просто молчать. Нет, не подумайте, девушек – свита, и юноши пламя желанья не гасят, но скучно. Больше скажу, целыми днями длились периоды гадкого чувства: уйдите, исчезните все.
А муж, что же муж? Он – константа. Главное, сын семиклассник – вот оно: соль земли, связь времен, долгая радость заботы. И всё-таки сын – не решенье.
Со скорбным лицом, бывало, Аннета начнет про дурное влияние школы, про мальчиков, воспитанных вовсе не так хорошо, почти уже сбили с пути – директор на Диму, бестактный, сердит. Но стоит лишь сыну возникнуть, как она позабыла про вас, голос меняется, слышится в нем счастье любви, обожанья, словом, грехи отпускает ему на тысячу лет, до конца.
Мальчик подбегает, шутки шелками струятся, улыбки, объятья. Двое играют, иль только один? Кто-то мне в первые дни хороший совет дал: если родителей трудно понять, на детей посмотри. Смотришь, люди приятные, и мальчик так мил, подходишь поближе: ломаный, лживый. Э, думаешь, осторожно. Но это не про Диму, сына Аннеты. Ему и в голову не приходило лгать, изворачиваться. Раскован и легок – цветок полевой. Учиться? Зачем? И так всё – восторг.
Анна играла в волейбол. Каждую среду, если не чаще, игра обязательно будет. Что за прелесть! Что ее может испортить? Ан, нет. Неужели Катюня? Как возникает женская ненависть? – Это загадка покруче, чем как движется ток в проводах.
Катя, подлюга, Анны удар засчитать не желает, (пусть соперница вдвое длиннее), сначала кричит, надрываясь, голосом тонким, потом на визг переходит, машет руками, Аню пытаясь задеть. Та, вся красная, как в Сандунах, врага отодвинуть уж руку заносит, но в то же мгновенье, сбита с ног маленьким, мощным корпусом Кати. Что тут сделалось! Как все вопили, рассказать не берусь.
Дня через два прибегает Катюня ко мне. Самое слово простое «сволочь» – не катит в письме, ну а «рыжая длинная сволочь» за ласку сойдет. Интонация – вот что играет.
С тех пор, Кате об Ане, Ане о Кате – нельзя говорить, очень строгий запрет. И что, не играют? Играют, но Катя – персона нон грата.
Время прошло, все всё забыли, но лишь Катя мелькнет у площадки, тут же Аннета, с нею пара соратниц, исчезнут. Играют и так. Желающих много.
Катюня «аристократкам» классовый враг, просто «деревня», но слово, хотя бы и вслух, что может исправить? Вот лучше бы так: две дамы (оттуда-отсюда) выходят на ринг. Каждую пятницу бой объявляется в шесть. Развлеченье мужчинам, а женщинам тема бесед.
Семьи с вилл дружили и жили как будто бы дружно. Ближе к полудню время тусить приходило. «Аристократкам», из самых нарядных, Анна примером казалась, стая наперсниц неотступно при ней. Если в какой-нибудь вилле собиралось своих больше двух, воображаемая избранность торжествовала. Там за стеной… фи… вульгарность какая.
Чем занимались кроме игры в волейбол? Пили кофе. По двое, по трое, кучкой собравшись случайно или, заранее дело придумав, сходились. Найдется всегда, что обсудить, кто с кем скандалил, мирился, сходился, событья реальные, сплетаясь с придумкой, (а без выдумки сдохнешь от скуки), это общая почва, общая собственность. На почве такой вырастало чувство превосходства, ведь девочки здесь непростые. Даже имя Аннета, как красивое платье, примерено было, чтоб поняли все.
«Изысканность» заглушала потребность в наивной простоте, в исповедальности, так, что, в конце концов, подлинное засыхало и забывалось.
День рожденья Анны. Каждый желанен, каждого Анна ласкает и взглядом, и словом. Улыбки в ответ расцветают. Вилла сияет, трава перед нею блестит, соседи все здесь, но как круг поинтимней собрался, – исчезли.
Другом ближайшим семьи, так уж давно мне говорили, считался Виталий, красавец, жених по призванью. Виталий женился фиктивно в предвкушении Африки дальней, и у супругов, у каждого, жизнь завязалась своя. Он носил под рубашкой красиво повязанный шейный платок, а на лице печать чужестранства. Это ль не повод нашим девушкам местным тайно вздыхать, с мужем сравнив. Виталий всегда холостяк, несмотря на жену, так казалось. Душа его не привязана сроду никем, никогда. Он блуждает кометой, к Аннете упавшей в подол. Без улыбки его не видали, и без мата его не слыхали, а уж трезвым – и думать смешно.
Для всех пара Виталий и Анна, если и пара, то просто в другом измеренье.
Моя неприкаянность (кого я тут знала?) невольно делала из меня наблюдателя. И вот что я увидела. Взглядом Анна Виталия не отпускала, он же абсолютно раскованным гостем бродил меж гостей. Заметила тоже, что если Виталий заговаривал с Аней или включался в тесный круг ее собеседников, то в ее голосе появлялись своеобразные вибрации и глубина. Я и раньше замечала, если рядом с женщиной появляется интересный ей мужчина, голос ее меняется. Но то же и с мужчинами, нет, нет, не с Виталием.
День рожденья в подполье ушел. Свет выключают. Торт несут, свечи жгут. Много лиц незнакомых, текстильных, наверно. В нашем городе два равно-прекрасных гнезда. Нефтянка для нас, Текстиль для соседей. Стушевалась Аннета пред звездою текстильной Ариной. Девушка крепкая костью, голосом, словом. Внучка героя Гражданской, с фамилией громкой Октябрьской. На основе эсерообрядчества в ней диссидентски возрос мат могучий московской богемы и уверенность полная в силах, уме, превосходстве. Девушки сорта такого встречались мне в жизни. Манят они неприступностью внятной, повадкой богинь, снизошедших до сирых и бедных.