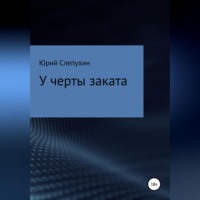Полная версия
Ступи за ограду
Не утерпев, он поднял глаза и встретился взглядом с сидящим напротив. Так и есть – знакомое лицо, хотя и без усов на этот раз. Хвала Иисусу, эта встреча не из опасных; во всяком случае, для кого она сейчас опаснее – сказать трудно.
Визави спокойно посмотрел на него, чуть шевельнул бровью и налил себе из бутылки второй стакан.
– Сеньор Хуарес? – негромко спросил Пико. – Или я ошибаюсь?
– Последнее вернее, – тотчас же отозвался тот без удивления, точно ждал этого вопроса. – Сожалею, молодой человек, но фамилия у меня совсем другая.
– Тогда извините, – сказал Пико. – Спутал вас с одним знакомым.
– Ничего, – ответил предполагаемый Хуарес. Откусив половину сандвича, он неторопливо прожевал ее, запил пивом и добавил: – Это бывает. Вы вот, на первый взгляд, тоже мне напомнили – я знавал некоего Ретондаро, в столице. Похож на вас как две капли воды.
– Какое совпадение, – пробормотал Пико.
Он допил кофе и закурил. Тем временем Хуарес, покончив со своим завтраком, встал, расплатился с подошедшим мосо и направился к двери, бросив на Пико взгляд, который можно было истолковать как угодно. Пико видел через окно, как он остановился у выхода, сунул в рот черную итальянскую сигарку и принялся неторопливо похлопывать себя по карманам в поисках спичек с ленивым видом человека, которому некуда девать время.
Пико тоже вышел.
– Разрешите огоньку, – сказал Хуарес, когда он поравнялся с ним.
Пико протянул ему зажигалку, они пошли рядом, Хуарес долго и тщательно раскуривал на ходу свою «аванти».
– Я вижу, молодой кабальеро, – сказал он наконец, – что даже подполье не отучило вас от болтливости, привитой на юридическом факультете…
Пико смутился:
– Конечно, мне не следовало называть вашу фамилию вслух… Но я был просто поражен, – ведь Ларральде говорил мне, что вы в тюрьме!
– Ларральде – большой мастер рассказывать небылицы про своих знакомых, – усмехнулся Хуарес. – Про вас, например, он сказал, будто вы где-то в эмиграции. Вы очень спешите?
– Нисколько, – поспешил заверить Пико. Удивительно удачно, что он встретил этого человека! Интересный собеседник помогает коротать время, а дон Луис Хуарес был несомненно интересным собеседником. С ним, коммунистом, можно было отлично поспорить. Пико всегда предпочитал разговаривать с людьми, исповедующими взгляды, отличные от его собственных. Беседа с единомышленником никогда не доставляет такого удовольствия, как хороший спор с умным противником.
– Я совершенно не занят, сеньор Хуарес, – сказал он. – Если вы не против, зайдемте в парк, там в амфитеатре можно поговорить без помех…
Хиль познакомил их года полтора назад, но встречались они за это время всего раза четыре, может быть, пять – и всякий раз спорили. Однако сейчас Пико почему-то чувствовал, что е.му хочется не столько спорить, сколько советоваться.
Они сидели в пустой каменной чаше греческого амфитеатра, в пологой воронке, образованной концентрическими рядами скамей. Было уже довольно жарко, не по-весеннему припекало полуденное солнце. Внизу, на небольшой площадке сцены, ребятишки в линялых комбинезонах гоняли тряпичный футбольный мяч.
– Я не за конформизм и не за сидение сложа руки, – негромко говорил Хуарес, – вы просто не хотите меня понять. Я только против безответственных авантюр. Я против того, чтобы честные парни вроде вас таскали из огня каштаны, которыми будут лакомиться другие. Вы отдаете себе отчет – с какими силами блокируетесь?
– У нас нет другого выбора, – возразил Пико. – Если хотите знать, я, католик, куда охотнее блокировался бы с вашими единомышленниками. Но, как видно, коммунисты предпочитают держаться в сторонке, что ж делать…
Он пожал плечами, не глядя на собеседника.
– Совершенно верно, – отозвался тот. – От этой кухни мы предпочитаем держаться в сторонке. За интересы латифундистов и генералов мы на баррикады не пойдем, вы совершенно правы.
– Мы идем на них за интересы народа, – сухо сказал Пико.
– А он вас на это уполномачивал?
– Бывают моменты, когда честные люди начинают действовать, не дожидаясь полномочий!
– Верно. А бесчестные тем временем ухмыляются и подталкивают их в спину: идите, мальчики, идите и умирайте, ни о чем не заботясь!
– Я не настолько наивен, как вы думаете, сеньор Хуарес. Всегда находятся негодяи, умеющие извлечь пользу из чужого подвига, но эта мысль меня не останавливает. Ни меня, ни моих друзей. Мы знаем, что идем за правое дело, и этого сознания нам довольно.
– Вы уверены, что оно действительно правое? Ну что ж, желаю вам не разочароваться. Мне только хотелось бы знать, на чем эта уверенность основана.
– На том, что мы видим вокруг себя! – вспыхнул Пико. – Наш народ подвергается систематическому и планомерному растлению, сеньор Хуарес! Ему грозит моральная гибель – что значит по сравнению с этим физическая смерть нескольких сотен, даже тысяч человек? Вот на чем основана моя уверенность!
Хуарес усмехнулся и покачал головой:
– «Растление», «моральная гибель»… Плохо вы знаете народ, молодой человек, – тот самый народ, за интересы которого готовы идти на смерть, и мало в него верите! Народ не так просто растлить и не так легко привести к «моральной гибели», как вам кажется. Уж как нас растлевали во времена колонии и позднее – в эпоху Росаса… Казалось бы, вы, студент, должны знать собственную историю!
– Кстати об истории, – сказал Пико. – И попутно о возрасте, потому что за вашими словами я угадываю снисходительную насмешку над моим жизненным опытом, точнее – над его отсутствием. Так вот, сеньор Хуарес, эту же самую мысль – относительно моральной гибели – мне недавно высказывал человек, который старше вас, который обладает довольно солидным запасом опыта и наблюдений и для которого изучение истории является профессией. Вам знакомо имя доктора Альварадо?
– А, вон что, – улыбнулся Хуарес. – Немного знакомо, как же.
– Его, пожалуй, не обвинишь в легкомыслии, не правда ли?
Хуарес помолчал, продолжая улыбаться каким-то своим мыслям.
– Послушайте, дружище, – сказал он, закуривая новую сигарку. – Я, наверное, плохо поступаю, пытаясь подорвать в вас веру в ту затею, ради которой вы сюда приехали, и доверие к вашим руководителям…
– Это не так просто сделать, сеньор Хуарес!
– Позвольте, я кончу. Я ведь прекрасно понимаю, что для вас уже поздно сворачивать в сторону… И, коль скоро вы уже на этой дорожке, пожалуй, гуманнее было бы не обременять вас лишними сомнениями накануне восстания. Но вы сами начали этот разговор, и я не вправе от него уклониться. Вот вы говорите – Альварадо… Что ж, это человек, несомненно, честный, но неужели вы сами не видите, что он меньше всего подходит для таких дел? Его призвание – изучать историю, а он пытается ее делать. Да разве с такими руководителями совершают государственные перевороты? Альварадо – пешка в чужих руках, его именем прикрываются, используют его авторитет среди студентов, но не больше. А вы ссылаетесь на его мнение. На мнение человека, который сам едва ли понимает, что делает…
Пико вскипел:
– Но что дает вам право думать, сеньор Хуарес, что только вы и ваши единомышленники обладаете единственно правильным пониманием происходящего?!
– Наша близость к народу, вот что. Поверьте – если бы мы сейчас видели, что народ поддерживает идею переворота, мы были бы с вами. Но народ вас не поддерживает и не поддержит, поэтому не поддерживаем и мы. Народ знает, чем все это кончится. На смену одному прогнившему режиму придет другой, который начнет гнить с первого же дня, и этим ограничатся перемены. Нет, знаете ли, такая игра не стоит свеч. Я только что пожелал вам не разочароваться в этой вашей так называемой «революции», но это ерунда, вы все равно разочаруетесь. Я сейчас хочу пожелать вам другого – чтобы разочарование пошло вам на пользу. Мне думается, дружище, так оно и будет…
7
До сих пор она только по книгам знала, что бывают воспоминания, которых можно стыдиться так мучительно, с такой почти физически ощутимой болью. Раньше она только читала о таких вещах, теперь ей пришлось переживать их самой.
Внешне Беатрис ничем этого не проявляла. Она по-прежнему бывала в отеле, даже стала бывать там чаще обычного, иногда посещала с Жюльеном сборища молодых поэтов, где каждый раз ей было отчаянно скучно, и приняла приглашение Клары Эйкенс съездить на недельку «в поля». Они вдвоем прожили десять дней в Торикуре, глухой брабантской деревушке, километрах в шестидесяти от столицы, потом вернулись в опустевший от августовской жары Брюссель. Все это время она была еще молчаливее обычного – и только, но душа ее день за днем корчилась на медленном огне.
После встречи с Фрэнком прошло уже больше месяца. В тот вечер, когда прошло милосердное оцепенение первой минуты, она прежде всего испытала туманящую рассудок ярость от перенесенного оскорбления; в тот момент, она бы не задумываясь убила Фрэнка, окажись он перед ней и будь у нее в руках оружие. Но это схлынуло быстро, и тогда Беатрис поняла самое страшное: за полученную пощечину ей винить некого, потому что пощечина была заслуженной. Оскорбление было нанесено не со стороны, не извне, и это оказалось самым страшным; она сама – дочь Альварадо! – облила себя грязью, растоптав свою честь, свое воспитание, все то, что когда-то давало ей возможность считать себя на полголовы выше всех остальных.
Это сознание своей исключительности, хотя и старательно спрятанное от окружающих, Беатрис привыкла ощущать в себе с самого детства, как нечто совершенно от нее неотделимое, такое же ей свойственное, как ее имя, фамилия или внешность. Все это выражалось для нее короткой формулой: «Я – Альварадо». Она никогда не произносила этого вслух, но довольно часто повторяла мысленно, и этих двух слов всегда оказывалось достаточно, чтобы удержаться от любого поступка, способного в той или иной степени уронить ее достоинство, достоинство урожденной Альварадо.
Чувство собственного превосходства может либо толкать человека на необычные поступки, либо удерживать от обычных. С Беатрис чаще всего происходило последнее; известную поговорку насчет быка и Юпитера она для собственного употребления вывернула наизнанку – «Quod licet bovi…»13.
Еще в лицее она приучила себя к мысли о том, что ей непозволительно ни сплетничать, ни лгать подругам или профессорам, ни тайком от наставниц надевать модные украшения, выходя на улицу, – все то, что было позволительно для ее подруг, не было позволительным для нее, Беатрис Альварадо. Начинаясь с мелочей, это перешло постепенно и на вещи более серьезные, определив мало-помалу целый стиль поведения, более того – стиль жизни. Бывали, однако, моменты, когда это же самое сознание превосходства вдруг прорывалось обратной своей стороной – ощущением дозволенности того, что не дозволено другим.
То, что произошло в день объяснения с Фрэнком, не имело ни оправдания, ни объяснения ни с какой стороны. Беатрис очутилась перед беспощадным фактом: она, всю жизнь брезгливо сторонившаяся малейшего проявления вульгарности, в трудный момент – в один из тех моментов, когда проверяется истинное, а не показное благородство человека, – повела себя как последняя уличная девка. За это ее ударили по лицу – ее, Альварадо! – и она даже не могла хотя бы на секунду утешиться сознанием того, что стала жертвой несправедливости! Какая там несправедливость! Теперь она по праву была одной из тех, кто получает пощечины.
Потом она вдруг восприняла случившееся под совершенно иным углом зрения. Однажды ночью, когда Беатрис лежала без сна, ей неожиданно пришло в голову то, что не приходило до сих пор, – положение Фрэнка Хартфилда во всей этой безобразной истории.
Что должен думать теперь Фрэнк о ней, она представляла себе очень хорошо и с этим свыклась. Сама она думала о себе еще хуже. Но что в тот день должен был Фрэнк пережить – это пришло ей в голову только сейчас, и только сейчас ей пришло в голову, что все ее чувства оскорбленной гордости и оскорбленного собственного достоинства мелки и ничего не стоят по сравнению с тем чувством оскорбленной любви, с каким он тогда от нее ушел…
С этого дня мысль о Фрэнке не покидала ее. Во что бы то ни стало ей нужно было рассказать ему о своем раскаянии, убедить его в том, что она вовсе не хотела его обидеть, что все случившееся было с ее стороны просто неприличной истерической выходкой, должна была бы сказать ему все это, будь к такому разговору хоть малейшая возможность. Но возможности уже не было и не могло быть – Беатрис понимала это очень хорошо.
В субботу семнадцатого она с утра отправилась в «отель разбитых сердец», чтобы вытащить Клер куда-нибудь за город. Но у той оказалась гостья.
– Знакомься, Додо, – сказала Клер, – это та самая Астрид, помнишь, я тебе рассказывала…
Пытаясь вспомнить, Беатрис нерешительно протянула руку загорелой, мальчишеского вида блондинке в очках без оправы.
– Очень приятно, – сказала она. – Клер говорила, вы были в Южной Америке? Я вижу, такой загар…
– Уже не тот, —рассмеялась блондинка. – Это уже средиземноморский, из Америки я уехала почти три месяца назад. А сейчас, понимаете, шеф мой опять умотал в Байрес, ненадолго, и я тем временем решила вот навестить свою обожаемую отчизну. Черт его понес именно теперь – еще ненароком пристрелят…
– Кого, простите? – переспросила Беатрис, мало что поняв из французской скороговорки Клариной приятельницы.
– Моего шефа, Маду! Тем более что я собираюсь за него замуж.
– Но вы сказали – он в Буэнос-Айресе? Я не думаю, чтобы там так много стреляли на улицах. – Беатрис улыбнулась. – Это больше в фильмах – пальба, гаучо с большими ножами… Вы ведь были в Аргентине?
– Нет, не получилось, мы последнее время работали в Парагвае.
– Ах так. И что у вас за работа?
– Да я там таскалась с одной экспедицией… Этнографы, изучают индейцев бассейна Ла-Платы.
– В Парагвае уже не Ла-Плата, а Парана, – поправила Беатрис. – Много вы изучили индейцев?
– По правде сказать, – блондинка опять засмеялась, – мофов видели куда больше!
– Мофов? – Беатрис подняла брови. – Что есть моф?
– А это у нас так во время войны немцев называли, – пояснила Клер. – Астрид говорит, их там сейчас целые колонии.
– Ах, немцы. – Беатрис понимающе кивнула. – Да, они многочисленны и в Аргентине. Приехали после войны. Но в Парагвае их должно быть еще больше, поскольку там президент – немец.
– Йа, йа, – басом подтвердила Астрид. – Герр Альфред Штрёснер, хайль Гитлер. Да если бы только он один! У них там все онемечено – полиция, все решительно… Ой, девочки, в какую я там однажды влипла компанию! – Она расхохоталась. – Эти болваны приняли меня за немку – я им представилась под слегка измененной фамилией – фон Штейнхауфен вместо Ван Стеенховен, – и они меня потащили на какой-то свой праздник…
– Но зачем вы представились под слегка измененной фамилией? – удивленно спросила Беатрис.
– Да просто так – для смеха! Ты что, никогда не бывала на маскараде? Вот и я поехала, чтобы развлечься…
«Странное развлечение», – подумала Беатрис. Приятельница Клариты ей определенно не понравилась – слишком шумная, и потом эта непрошеная фамильярность!.. Нет, непонятно, что нашла Кларита в дочери антверпенского коллабо.
Посидев для приличия еще с полчаса, Беатрис сказала, что ей пора идти. О загородной прогулке и не заикнулась – еще чего доброго увяжется эта любительница маскарадов. Сразу на «ты», и голос какой-то вульгарный, и вдобавок еще очки…
Беатрис решила вернуться домой, но в парке Сенкантнэр, пока она лениво брела вдоль полукруглой колоннады Исторического музея, рассеянно поглядывая на стенную роспись между колоннами и вороша ногами сухие листья, ее вдруг охватило нестерпимое желание уехать за город. Наверное, слишком не вязался с этим мирным шорохом гул автомобильного потока, извергающегося сквозь Триумфальную арку по Рю-де-ла-Луа, и бензиновая гарь – с нежным и терпким запахом вянущей осени. Лучше всего было бы сейчас взять у консьержки велосипед и уехать на целый день куда-нибудь в Форэ-де-Суань, но по субботам к мадам приезжал племянник и велосипед до понедельника оставался в его распоряжении.
«Напрасно я вообще вернулась в Брюссель, – подумала Беатрис. – Нужно было прожить до осени в деревне, а потом…» Что будет потом, она и сама не знала. Рано или поздно придется, очевидно, ехать домой… Ей вспомнился заросший бурьяном дворик в Торикуре, низкие комнаты с балками на потолках, смешная каменная ванна. Лучше всего там были тихие, долгие северные закаты: дом стоял немного на пригорке, и из окна спальни были видны разбросанные до близкого горизонта лоскутные одеяла полей, рощицы и отдельные фермы, две-три далекие колокольни, уже которое столетие молчаливо указывающие людям на небо, и небо по вечерам светилось над этими полями тихим, бесконечно тихим сиянием. Беатрис еще никогда – ни на родине, ни в Италии – не видела таких удивительных закатов, завораживающих своей отрешенностью от всего земного…
На трамвайной остановке она вскочила в первый подошедший вагон, не посмотрев на номер. Дойдя до бульвара Режан, трамвай свернул влево, миновал шумную и людную Порт-де-Намюр, потом обогнул мрачную громаду музея средневекового оружия на Порт-де-Аль; у Южного вокзала кондуктор объявил конец маршрута.
Беатрис постояла у журнального киоска, почитала рекламы, приглашения посетить Спа и Остенде, поинтересовалась расписанием поездов на Париж. Ей вспомнилось, как когда-то – очень-очень давно – она любила читать расписания кораблей и самолетов, воображая себя настоящей путешественницей. Ну что ж, вот она и путешественница. Джерри оказался прав, когда предсказывал ей путешествия…
Потом она села в другой трамвай – пригородный, идущий в сторону Энгьена. В длинном вагоне было почти пусто, ехало большое крестьянское семейство, чем-то похожее на «Едоков картофеля», пестрели привычные рекламы – телевизоры «Филипс», шоколад «Кот д'Ор», фотопленка «Геварт». За окном убегали назад унылые улицы Андерлехта, брусчатые мостовые, грязно-красный кирпич фасадов, фабрики, мастерские. Чтобы не видеть всего этого безобразия, Беатрис закрыла глаза и прижалась головой в угол сиденья. «Нужно было ехать б другое место», – подумала она равнодушно.
Остановки на этом маршруте были редкими, однообразная тряска вагона и жара действовали усыпляюще; Беатрис сама не заметила, как задремала. Когда она проснулась, трамвай, гремя и раскачиваясь, летел вдоль желтой полосы сжатого поля, рядом с шоссе, обсаженным старыми вязами. Тесная стайка разноцветных велосипедистов мелькнула навстречу и исчезла, словно подхваченная ветром. Оранжевый грузовик с надписью «Сольвэй» догнал вагон и с минуту бежал рядом, играя рессорами, потом отстал. Мимо шоссе, за мелькающим частоколом древесных стволов, медленной каруселью вертелась желто-зеленая геометрическая мозаика полей и садов, словно придуманная модным декоратором. «Едоки картофеля» уже исчезли, теперь в вагоне не было никого, кроме дремавшего у передней площадки пожилого толстяка. Беатрис встала и, пошатываясь от толчков, пошла к выходу; толстяк тоже поднялся.
На остановке, где они сошли, было пусто: бетонная лента шоссе, несколько домиков под черепицей и маленькая закусочная. После духоты в вагоне здесь показалось прохладно, но тотчас же Беатрис почувствовала, что день жаркий, почти без ветра.
Когда затих грохот уходящего трамвая, стало очень тихо. Переходя через шоссе, Беатрис подумала, что в Европе все иное – даже запахи. Если дома выехать куда-нибудь за город, сразу услышишь запах земли – запах, который хочется вдыхать и вдыхать полной грудью, закрыв глаза. А здесь и в полях пахнет какой-то техникой. Впрочем, наверное, это от трамвайных рельсов.
Хозяйка закусочной, когда Беатрис спросила что-нибудь поесть, жизнерадостно предложила ей свежие виноградные улитки, «только что сваренные и вот такие жирные».
– Мадемуазель останется довольна, – закричала она в восторге, – это настоящие улитки, а не те заморыши, что вам могут подать в Брюсселе! Лакомство!
– Господи, нет, – сказала Беатрис с содроганием. – Я их никаких не ем, ни заморышей, ни других. Мне просто закусить, без лакомств. Понимаете?
– О, мадемуазель – иностранка, – сказала хозяйка понимающе и сочувственно. – Что же тогда?
– Можно два яйца? – спросила Беатрис. – И кофе, пожалуйста. Если можно – фильтр.
Она села к окну и подперла щеку кулаком. Зачем она сюда приехала, на эту трамвайную остановку в чистом поле? Есть улиток? Уж лучше бы провести день в музее.
В закусочной было тихо и безлюдно, приглушенный приемник передавал обычную программу люксембургского радио – танцевальную музыку вперемежку с рекламами; за горячим от солнца стеклом белело шоссе и блестели отполированные струны трамвайных рельсов. Тяжелый военный грузовик проревел мимо, неистово хлопая незашнурованным сзади брезентом, – пыльно-зеленая громадина с белой звездой армии Соединенных Штатов. Беатрис проводила машину глазами и в тысячный раз устало подумала о том, что нужно написать в Штаты, и еще о том, что писать бессмысленно, так как Фрэнк все равно не станет читать ее писем. Она с трудом оторвала взгляд от шоссе. Напротив, чуть левее, проселочная дорога уходила к поросшему лесом пригорку. Приехавший с Беатрис толстяк стоял у изгороди, разговаривая с двумя францисканцами в коричневых рясах.
– Что это там? – спросила Беатрис фламандку, принесшую яйца, и указала на дорогу.
Фламандка посмотрела и пренебрежительно махнула рукой.
– О, просто монахи, – сказала она. – Мадемуазель никогда не видела монахов? Самый бесполезный народ, мадемуазель.
– Я не имела в виду монахов, – возразила Беатрис. – Там, дальше, видите? Лес?
– О, это! Теперь я поняла. Это не лес, мадемуазель, это замковый парк. Замок там и расположен.
– Какой замок?
– Гаасбек, какой же еще. Вы ведь приехали посмотреть замок? К нам только за этим и приезжают.
– Нет, – Беатрис отрицательно качнула головой. – Я приехала не за этим. А стоит его смотреть?
– Один из лучших замков Бельгии, мадемуазель, сорок гектаров одного парка! То, что вы там видите, – это не лес, это парк. Сходите туда, не пожалеете. Приятного аппетита, мадемуазель, сейчас подам кофе.
Поев, Беатрис выкурила сигарету. Курила она теперь довольно часто; ей казалось, что это если не успокаивает по-настоящему, то хоть в какой-то мере развлекает. В компании «разбитых сердец» курили почти все, и Беатрис постепенно стала делать то же, что и другие.
Иногда она сама равнодушно удивлялась той легкости, с какою перенимала теперь чужие привычки, становилась как все.
Хор дикторов люксембургского радио бодро прокричал какой-то рекламный стишок, потом джаз заиграл «Три монетки в фонтане» – приглушенно, в слегка замедленном темпе, без вокального сопровождения. Беатрис сидела выпрямившись, лицом к окну, и в ее глазах туманилась и расплывалась белая от солнца дорога, трамвайные столбы, пыльная придорожная зелень. Нужно было встать и уйти сразу, но она осталась и теперь не могла заставить себя тронуться с места. Белое, синее и зеленое переливалось в ее глазах, слезы приняли окраску неба и деревьев и жгли, как огнем, но она боялась сморгнуть их и опустить веки, чтобы не увидеть то, что вставало перед нею всякий раз, когда она слышала эту простенькую мелодию, чтобы не очутиться снова рядом с ним в тот вечер, за тысячи миль и лет отсюда…
Дойдя до ворот парка, Беатрис узнала, что замок открыт для обозрения по вторникам, четвергам и воскресеньям, с десяти до семнадцати. Она не огорчилась: переходить с толпою зевак из зала в зал и слушать затверженные объяснения гида ее вовсе не привлекало. Провести день в парке было куда приятнее.
Здесь было так тихо и безлюдно, что на мгновение ей стало даже страшновато; в Аргентине, по крайней мере, она никогда не рискнула бы гулять в таком месте без провожатых. Впрочем, это неприятное чувство быстро рассеялось – слишком здесь было тихо и слишком безлюдно. Здесь она действительно была одна; такого ощущения покоя и одиночества ей не приходилось испытывать уже давно.
Аллея, уходящая от ворот направо, была обсажена громадными старыми каштанами. Увидев под ногами коричневый матовый орешек с заостренным кончиком, Беатрис удивилась. Ей почему-то не попадались до сих пор съедобные каштаны, растущие так открыто. Она очистила его и съела, потом начала искать другие, вороша сухие листья, и скоро набила оба кармана.
Увлеченная этим занятием, Беатрис не заметила, как дошла до самого замка; подняв голову, она неожиданно увидела впереди, за деревьями, красные кирпичные стены.
Снаружи Гаасбек выглядел неприветливо, несмотря на зелень и солнце. Ворота в глубине стрельчатой арки были закрыты, маленькие узкие окошки, разбросанные по стенам редко и беспорядочно, смотрели угрюмо; Беатрис поежилась, представив себе эту постройку зимой, в окружении стонущих от ветра голых деревьев.