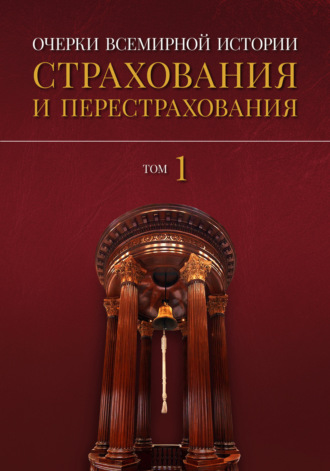
Полная версия
Очерки всемирной истории страхования и перестрахования. Том 1. История страхования и перестрахования до 18-го века
Тогда же «общая авария» стала рассматриваться как торговый обычай, предусматривающий распределение расходов по спасанию всего морского предприятия между его участниками, т. е. судовладельцем, грузовладельцем и перевозчиком.
Основные правила сводились к следующему. Если товар выброшен за борт с целью облегчения судна, то убыток должен возмещаться всеми, поскольку это было сделано в интересах всех участников перевозки.
Если, несмотря на это, судно все-таки погибло, а товары других были спасены, то тот, кто чьё имущество было выброшено за борт, имеет право на возмещение наравне с другими»;
Если судно погибло, либо мачта была потеряна во время шторма, пассажиры не должны участвовать в возмещении, если судно было спасено благодаря тому, что сами пассажиры обрубили мачту в целях сохранения собственных жизней. Если в целях облегчения судна товар был выброшен на борт и погиб, считается, что убыток должен быть урегулирован исходя из оценки стоимости имущества, которое сохранилось на судне. Однако, если погибло само судно, не должны приниматься в расчет спасенная шлюпка или товар, находящийся в ней. И, наконец, возмещение должно оцениваться с учетом выброшенного в море имущества и спасенного судна[29].
К сожалению, текст этого закона не найден. И сегодня сложно по имеющимся ссылкам понять, имели ли жители Родоса хотя бы малейшее представление о страховании. В то же время, в фрагментах Закона Родоса имеют место положения, касающиеся договора морского займа, и с которым жители острова были, безусловно, знакомы, и в любом источнике гражданского права договор «de nautico fænore, de usurâ maritimâ» (досл. с лат. договор «морского займа, морских процентов») также занимает значительную часть.
Греки. Договор бодмереи, который был известен грекам во времена Демосфена (около 350 года до н. э.)[30], что является датой самой ранней ссылки, приобрел стабильную и достаточно сложную форму.
Вопрос происхождения греческого договора морского займа является предметом догадок и гипотез. Отсутствуют какие-либо ссылки на подобный договор в истории Греции вплоть до 4-го века до н. э., когда, как отмечал П. Бушер в 1806 году, такой договор был практически идентичен тому, который применялся в его времена во Франции[31].
По-мнению Ч. Ф. Треннери, «поскольку такая сложная договорная система могла стать результатом длительного исторического развития, она, едва ли, происходила из Греции, особенно, учитывая то, что право было неблагосклонно к должникам до времен Солона (примерно 590-й год до н. э.), который в своих законах не одобрял и препятствовал заморской торговле. Поэтому, вероятней всего, греки узнавали о договорах морского займа из некоторых внешних источников. Вполне возможно, что это был тот же источник, из которого они черпали знания о математике, навигации, таблице мер и весов, монетной системе, алфавите и т. д., и по тому же каналу, а именно, из Вавилонии»[32].
Возникает вопрос, каким образом и в какой степени эта ранняя форма договора займа вавилонян стала использоваться в Греции 1900 лет спустя, т. е. за 350 лет до н. э. Более того, если допустить, что греки получили о нем сведения от финикийцев напрямую либо через их поселение на острове Родос, которые, в свою очередь, приобрели знания о преимуществах данной системы от вавилонян, справедливо полагать, что классическая форма договора является прямым развитием договора, применяемого вавилонянами. При этом возникает вопрос о степени распространенности такого договора среди греков. Кроме того, важно понять, были ли условия этого договора идентичны тем, которые содержатся в Кодексе Хаммурапи или они были расширены и изменены с учетом требований торговли финикийцев? Есть предположение, что договор, если он был передан грекам финикийцами, был представлен в более гибкой форме, чем это обуславливалось законами, о которых ранее шла речь.
Бодмерейные займы были известны и очень активно применялись и карфагенянами[33], т. к. их государство было основано финикийцами. Несомненно, что карфагеняне внесли в этот договор определенные усовершенствованные условия. У древнегреческого историка Полибия (Polybius) есть ссылка на Второй договор, заключенный в 306 году до н. э. между Римом и Карфагеном, в котором было четко оговорено, что они не должны разрешать своим гражданам совершать пиратские действия по отношению друг к другу. Таким образом, греки должны были знать и тот договор бодмереи, который применялся в Карфагене.
Ясно, что по многим вопросам, особенно касающимся коммерции, морской торговли, финансов и т. д., Финикия и Карфаген делились с Грецией.
Греки также могли получить информацию о морском займе от жителей острова Родос, который был колонизирован и приобщен к цивилизации финикийцами.
Что касается вопроса о времени, когда греки могли познакомиться с договором бодмереи, то здесь следует отметить следующие моменты. Торговая экспансия Финикии на греческое побережье имело место в течение 10-го и 9-го веков до н. э., а в 9-м веке греки познакомились с таблицами мер и весов Финикии и Вавилона, которые они, вероятно, стали применять по мере привыкания к письменным договорам финикийцев.
Поэтому с большой степенью вероятности можно утверждать, что внедрение вавилонской и финикийской теорий и практик ведения финансов, lex mercatoria (торгового права) и т. д. происходило примерно в то же время, т. е. в течение 9-го века до н. э. Такой договор, как бодмерея, будучи интересным с точки зрения практического применения лишь для определенного класса торговцев, мог заинтересовать греков, но лишь в незначительной степени. Впоследствии развитие торговли и соответственно рост коммерческой активности греков, а также их верховенства в Эгейском море в 8-м и 7-и века до н. э. отменили доминирующее влияние финикийцев на греческие рынки, а греческие торговцы, в свою очередь, стали развивать заморскую торговлю и основывать рынки в Италии, на Сицилии и т. д.[34] Такой переход торговли к грекам вызвал у них необходимость адаптировать те обычаи, которые стимулировали торговые операции. Поэтому весьма вероятно, что на раннем этапе греческой торговли ее торговцы, грузоотправители и т. п. заинтересованно стали использовать торговые обычаи своих восточных соседей. Однако по мере того, как греки становились все более осведомленными об этих обычаях, они, естественно, стремились усовершенствовать их для своих нужд.
То, что такое постепенное изменение договора длилось до 6-го века до н. э., вероятно, вытекает из того факта, что до принятия Кодекса Драконта (Dracon’s Code)[35] (примерно 621 год до н. э.) отсутствовало либо носило слабый характер государственное регулирование действий частных лиц, и далее, что даже согласно этому кодексу правоотношения между должником и кредитором были весьма жестокими, в частности, несостоятельный должник находился в абсолютной власти кредитора.
Поскольку законы о договорах бодмереи были специально направлены на развитие торговли путем финансирования путешествующих торговцев и на снижение последствий внешних воздействий на заемщика, вполне очевидно, что существуй такой закон во времена Драконта, он бы выглядел неординарным на фоне других его законов. Порядка тридцати лет спустя в законах Солона, которые значительно улучшили положение должников, находим, что запрещался экспорт аттических или афинских продуктов, кроме масла. Такая мера, направленная на ограничение экспортной торговли Афин, ясно показывает, что законодательство того времени не способствовало развитию экстерриториальной торговли. Из этого можно сделать вывод о том, что коммерческое законодательство в то время содействовало смягчению положения низших классов общества. Соответственно, похоже, что законы, касавшиеся бодмереи, были приняты позднее. Очевидно и то, что примерно в это же время вопросы торговли стали привлекать внимание властей, поскольку есть свидетельства того, что в течение последующих двухсот лет торговля Афин росла быстрыми темпами, и в 4-м веке до н. э. были учреждены специальные трибуналы для быстрого разрешения торговых споров с тем, чтобы афинские торговцы не были ограничены в правах в результате судебных процессов. Право бодмереи также развилось до почти совершенной формы, что подтверждается тем фактом, что в речи Демосфена против Лакрита (Lacritus)[36] цитируется договор бодмереи. Афиняне применяли, за редким исключением, ту же конструкцию договора, которая дошла до наших дней.
Основными положениями, касавшимися выдачи займов греками, были следующие:
1) Соглашение, которое фактически являлось договором бодмереи, т. е. займа под залог судна или груза, содержало условия займа.
2) Гарантия составляла, как правило, не менее двойной стоимости выдаваемой суммы.
3) Срок займа.
4) Процентная ставка, которая варьировалась от 10 % до 12 % для заграничных рейсов в одну сторону и от 22,5 % до 30 % для рейсов в оба конца; в случае нарушения условий предусматривались штрафные ставки.
5) Рисками считались полная гибель капитала и процентов, если судно гибло или было захвачено на море; а также утрата части капитала и процентов в случае выброса части либо всего груза за борт или уплаты выкупа.
6) Присутствие представителя займодавца на борту судна.
7) Обязанности заемщика — следовать наиболее коротким маршрутом; возврат займа кредитору или его представителю либо его уполномоченному лицу; уведомлять, если деньги были уже выданы на те же товары, поскольку такие действия считались мошенничеством как со стороны первого, так и второго кредиторов.
8) Полномочия капитана судна на получение займа.
Однако следует заметить, что хотя закон был в пользу займодавца, этот вид инвестиций считался чрезвычайно опасным, и до такой степени, что запрещалось в данном случае использовать деньги сирот.
На самом деле основные несоответствия возникли не от природы договора, а от разных методов фрахтования кораблей и перевозки товаров, применявшихся в 4-м веке до н. э. и в 19-м веке н. э.
Афинский договор бодмереи заключался с целью займа денег на случай частичной или полной утраты со стороны торговцев или грузоотправителей под высокую процентную ставку и под гарантию, но не стороны займодавца. Как правило, требовалась гарантия, которая составляла двойную стоимость ссужаемой суммы. Читаем Демосфена: «Прежде всего в договоре сказано, что они взяли у нас ссуду в тридцать мин под три тысячи амфор вина, как если бы залог оценивался еще в тридцать мин, так что стоимость вина, включая издержки, необходимо возникающие при его хранении, возросла бы до одного таланта серебром. А эти три тысячи амфор они обязаны были везти в Понт на двадцативесельном корабле, принадлежавшем Гиблесию. Так записано в договоре, граждане судьи, который вы слышали. Но эти люди из трех тысяч амфор не взяли на судно и пятисот, а вместо того, чтобы закупить вино, как им надлежало, они тратили деньги по своему усмотрению, о трех тысячах амфор у них и заботы не было, и они вовсе не собирались, как им предписывает договор, грузить их на судно. А в доказательство того, что я говорю правду, возьми свидетельство у тех, кто был в плавании вместе с ними на том же корабле»[37].
Основными условиями, на которых выдавались такие займы, были следующие:
(1) Соглашения, которые в действительности являлись бодмерейными договорами или договорами морского займа под грузы (respondentia), содержавшие условия займа, должны были составляться кредиторами против предоставляемых им депозитов.
(2) Гарантия:
(а) судно и его оснастка.
(б) оснастка без судна.
(в) товары или грузы.
(г) судно и рабы на судне (т. е. судовая команда, состоявшая из рабов).
(д) деньги за фрахтование или проход через каналы.
(е) только мебельная обстановка на судне.
(ж) ценности, перевозимые не для продажи.
(з) в некоторых случаях все имущество заемщика, что отдельно оговаривалось в договоре.
(3) Срок займа:
(а) только на рейс в один конец.
(б) на рейс туда и обратно.
(в) только на рейс обратно. Подобные займы только на обратный рейс могли оформляться исключительно в отношении товаров, которые должны были доставляться в Афины, а не в какой-либо иной пункт назначения.
(г) на фиксированный период. Риск прекращался по истечении согласованного срока.
(4) Проценты:
(а) Расчет:
— за день или месяц;
— на определенную сумму за рейс в зависимости от пункта назначения, времени года, направления маршрута и т. д.
(б) Процентные ставки:
— за рейсы только в одном направлении — 10 %-12 %;
— за рейсы туда и обратно — 22.5 %— 30 %.
(в) Штрафные проценты:
— если заемщик не вернул весь займ плюс проценты в срок либо нарушил какое-либо условие договора;
— если судно следовало более опасным курсом, чем это было ранее согласовано либо опоздало с прибытием.
(5) «заимодавец»:
(а) Риски:
— полной утраты ссуженного капитала и процентов, если судно погибло вследствие природных катаклизмов либо было разрушено или захвачено пиратами, противником и т. д.
— утраты части капитала и процентов в случае вынужденного выбрасывания всего или части груза за борт или оплаты выкупа за груз лицам, захватившим судно.
(б) Полномочия:
— вправе направлять на судно своего представителя для обеспечения охраны его интересов и получать деньги в конце рейса в одну сторону, если займ выдавался только на рейс в один конец.
(6) Заемщик:
(а) Торговцы, обязательства и т. п.:
— обеспечивают движение судна в пункт назначения по согласованному курсу; в случае оговаривания альтернативного маршрута они обязаны оплатить более высокую процентную ставку;
— если займ выдается на рейс в одну сторону, деньги должны возвращаться заимодавцу, его помощнику либо его представителю на борту судна по прибытии в оговоренный пункт назначения;
— если займ выдается на рейс туда и обратно, деньги должны возвращаться заимодавцу либо его помощнику незамедлительно после возвращения судна;
— в определенных случаях в качестве залога может быть все имущество заемщика;
— допускается перевозка товаров со значительной стоимостью для покрытия займа;
— если товары, на которые ссужались деньги, были проданы, заемщик обязан заместить их товарами той же стоимости;
— товары не могут выгружаться в местах, где афиняне могут быть подвержены репрессиям;
— обязаны декларировать (уведомлять), если в отношении товаров уже ссужены деньги;
— нельзя оформлять второй залог на одни и те же товары, такие действия рассматриваются в качестве мошенничества как по отношению к первому, так и второму залогам.
(б) Капитан судна:
Вправе оформлять договор бодмереи под залог судна и груза на нем при условии, что он сам является собственником груза (фрахта) в размере не менее ⅓.
Торговец, получивший ссуду, возвращал ее только при успешном завершении торгового путешествия, причем возвращал на 30 % больше, чем получал. Эти 30 %, являясь кредитной ставкой, включали в себя и прообраз страхового тарифа. Так кредитор защищал себя на случай возможных убытков. А в одной из речей Демосфена против Формиона, который взял займ на морское путешествие, упоминается возврат 50 % по займу[38].
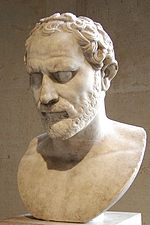
Бюст Демосфена
Много позже Демосфен в своей речи «XXXII Против Зенотемиса. Протест против незаконного возбуждения дела» рассказывал следующее о двух мошенниках Эгестратусе и Зенотемисе. Некоторые допускают, что эта речь принадлежит Демосфену, но, по мнению других, возможно, что это речь самого выступающего Демона, политического деятеля, который должен был быть оратором. Речь XXXII предположительно датируют временем около 340 г. до н. э. Поскольку сюжет довольно интересный, приводим краткое содержание речи:
«Некий торговец по имени Прот, взяв взаймы деньги у Демона, одного из родственников Демосфена, купил на эти деньги хлеб в Сиракузах и привез его в Афины на корабле, корабельщиком которого был Эгестратус. А Эгестратус и Зенотемис, против которого направлен этот протест, родом были массалийцы, и вот какое мошенничество совершили они в Сиракузах, как утверждает оратор. Они взяли взаймы деньги, но на них они на корабль ничего не погрузили, а тайком отослали их в Массалию (нынешний Марсель — прим. авторов), замыслив присвоить их у займодавцев. Поскольку же в обязательственном договоре было записано, что в случае гибели корабля с них не должны требовать этих денег, то они задумали потопить корабль. И вот ночью во время плавания Эгестратус, сойдя вниз, стал пробивать брешь в днище судна. Однако, застигнутый на месте преступления и спасаясь бегством от мореплавателей, он бросается в море и тут же погибает. Ну а Зенотемис, сообщник, как утверждает оратор, Эгестратуса, когда корабль все же благополучно дошел до Афин, стал оспаривать хлеб, говоря, что хлеб принадлежит Эгестратусу, а тот деньги взял взаймы у него. Но так как Прот и Демон воспротивились ему, он вчинил к тому и другому иски по торговым делам. И добившись заочного осуждения Прота, который не явился на суд по сговору с ним, как утверждает Демосфен, и был соучастником в его мошенничестве, он привлекает и Демона вторым к суду. А Демон подает протест против незаконного возбуждения дела, заявляет, что этот иск не подлежит принятию к судебному рассмотрению, ссылаясь на закон, предоставляющий торговцам иски при обязательственных договорах по курсу в Афины и по курсу из Афин, у Зенотемиса же, утверждает он, нет никакого обязательственного договора с ним. И хотя процесс по названию определяется как протест против незаконного возбуждения дела, однако речь произнесена так, как будто дело принято к прямому судебному рассмотрению по существу, — в ней говорится о том, что хлеб принадлежит не Зенотемису, а Проту, которому деньги дал взаймы Демон: он не хочет, чтобы казалось, будто он опирается только на букву закона, в действительности же не прав по существу дела, но показывает, что ему нечего бояться и прямого судебного рассмотрения дела по существу, а что сверх того закон предоставляет ему и право на протест против незаконного возбуждения дела»[39].
Несмотря на то, что такие истории были нередки, морские займы оставались популярными. Изрядный риск потерять вложенный капитал кредиторы компенсировали, требуя высокие проценты, размер которых никто не ограничивал. Величина премиальных зависела от разных обстоятельств — состояния судна, погодных условий, военной ситуации. В сохранившемся афинском контракте 340 года до н. э. говорится о выдаче ссуды на странствие по морю через пролив Босфор и уточняется, что проценты составят 225 драхм на 1000, но если плавание состоится после появления на небе звезды Арктур, то они будут 300 драхм на 1000. Поскольку звезда эта появляется в середине сентября, речь в контракте, видимо, идет о растущей опасности штормов в осенний период.
Существовали, правда, и иные, менее затратные способы страхования. Купцы, например, создавали своеобразные кассы взаимопомощи. При отправке товаров из одного порта в другой каждый пайщик вносил в общий страховой фонд свою долю и, если вдруг груз шел на дно или доставался грабителям, мог рассчитывать на частичную компенсацию из этого фонда. Такая практика была широко распространена в Древней Греции.
Однако вытеснить морские кредиты купеческому взаимному страхованию не удалось. И назначение определенной цены за риск перешло из греческого в римское право, которое также позволяло кредиторам назначать высокие проценты из-за большой роли случая в морских путешествиях.
Римляне. Римляне, в свою очередь, были обязаны грекам знанием о договоре морского займа не позднее 5-го века до н. э., когда Римская комиссия по праву побывала в Афинах. Как отмечал немецкий историк Т. Мо́ммзен (Theodor Mommsen),
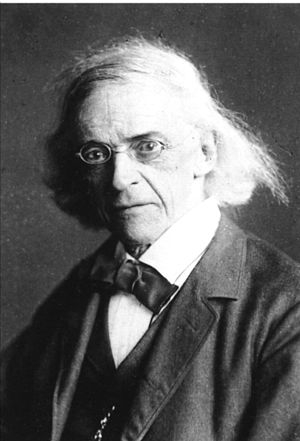
Теодор Моммзен
язык и письменность Латиума[40] указывают, что ранняя латинская торговля касалась, почти исключительно обитателей греческих колоний того времени — Кумы и Сицилии[41]. Французский юрист Ж. — М. Пардессю в своей работе «Коллекция морских законов до 18-го века» предположил, что римляне обязаны своим знанием этой системы и других морских обычаев жителям Родоса, но, если допустить, что греки использовали эту систему в неразвитой форме в период, когда они основали свои торговые колонии в Южной Италии, вполне вероятно, что они передали свои знания римлянам[42].
И эта вероятность подкрепляется тем фактом, что договор, который был известен римлянам, всегда был одним из займов «pecunia trajectitia» (досл. «деньги, ссужаемые под груз, перевозимый морем»), другими словами, займом денег или товаров, приобретенных на них для использования в морской торговле.
Поскольку торговля римлян касалась, в первую очередь, наземных перевозок товаров, можно почти точно утверждать, что, если они применяли такую практику, то начали бы с договора, который, как и договор вавилонян, защищал бы от рисков наземных перевозок, а впоследствии римляне, возможно, перенесли эти риски и на морские перевозки. Законодательство римлян касательно договоров бодмереи практически было идентично греческому законодательству. Вкратце основное различие состояло в следующем:
1) Ограничение случаев, когда заимодавец отвечал за убыток (утрату).
2) Полное освобождение от ответственности заемщика, поскольку зачитывалось залоговое обеспечение, предоставляемое заемщиком, в случае гибели товаров под займ.
3) Невозможность заимодавца назначать fœnus nauticum (досл. «морской процент») по займу, если морской риск прекратился или морская перевозка благополучно завершилась.
Данный договор был весьма популярен среди римлян, поскольку он позволял состоятельным гражданам, которые не занимались торговлей, инвестировать свои деньги по высокой процентной ставке, и также предоставлял заемщику возможность увеличить его торговый капитал, и, в то же время застраховать себя от полной гибели имущества.
Многочисленные ссылки в римском гражданском праве, касавшиеся данного класса займов, датируются от 100-го года до н. э. до 300-го года н. э., но вполне понятно, что договор бодмереи был известен и применялся и ранее. В течение указанного времени не было законодательных ограничений на процентную ставку, поскольку ее размер определялся по договоренности сторон договора. Процентная ставка применялась и в Западной Римской империи (Western Roman Empire) и, очевидно, эта практика продолжалась и в более поздний период времени, поскольку в 11-м веке н. э. утверждалось, что по данному договору могла начисляться ставка до 50 %. Однако в Восточной Римской империи Юстиниан в апреле 529-го года н. э. ограничил процентную ставку до 1 % ежемесячно, что считалось слишком низким процентом, и впоследствии указанное ограничение было им же отменено в Новелле 106. Вскоре после этого, возможно, по настоянию церкви, ограничение до 1 % в месяц было снова введено в Новелле 11 °Cвода римского гражданского права «Corpus Iuris Civilis Romani».
Сравнивая эту процентную ставку со ставками, которые назначались за страхование в 14-м веке н. э., можно заметить, что она была неадекватна степени риска, и, вероятно, поэтому те торговцы, которые использовали данный договор, открыли для себя некий метод страхования, который мог бы заменить договор морского займа. Если это так, то договоры морского займа стали применяться реже в качестве гарантий от потери капитала и постепенно замещались методами, более близкими к современному страхованию.
До конца 3-го века н. э. Сложно установить способ и время представления данного договора римлянам из-за неясных записей, сохранившихся о ранних периодах римской истории. Скорее всего, знания о договоре бодмереи были переданы римлянам либо их непосредственным предшественникам, латинам, греками, которые основали торговый город Кумы и торговые центры на острове Сицилия. Т. Моммзен утверждает, что язык и письменность Латиума (Latium — сегодняшний район Лацио на западе центральной Италии — прим. авторов) указывают на то, что ранняя торговля латинян осуществлялась почти исключительно жителями Кумы и сицилийцами[43], а Бэри уверенно полагает, что именно греческой колонии в Кумах жители Латиума обязаны знанием алфавита[44]. Такие тесные и длительные связи с молодыми и прогрессивными греческими колониями привели к постепенному обучению латинских торговцев торговым обычаям более развитого народа. Поэтому, если торговцы из Кумы знали о договоре морского займа, вероятно, что они познакомили с ним латинян. Известно, что римляне имели такой обычай в более поздние годы, при этом можно с уверенностью утверждать, что он не имел римского происхождения, поскольку в этом случае положения договора касались бы не только наземных, но и морских перевозок. Как указывалось ранее, очень важно отметить ограничения в договоре, привнесенном в Европу финикийцами и развитыми в дальнейшем греками. Нет никаких принципиальных препятствий к тому, чтобы fœnus nauticum (морской процент) не мог быть fœnus terrestre (наземным процентом). Все дело в системе, которой обладали нации, применявшие процентные ставки исключительно для морской торговли. В случае с римлянами, если они изменили эту систему под себя, будучи (как это было в самый ранний период их истории) приверженцами в основном сухопутных перевозок, похоже, что естественным путем было бы изобретение системы, главным образом, удобной для наземной торговли (как это было сделано вавилонянами), и позднее перенести ее и на морские перевозки. Примечательно, что в каждом случае, в котором на эту систему ссылаются латинские авторы, процент называется «морским процентом», а ссужаемые деньги, как указывает Ч. Ф. Треннери, «money sent over sea» — дословно, «деньги, отправленные на море» или в целях морского путешествия[45].

