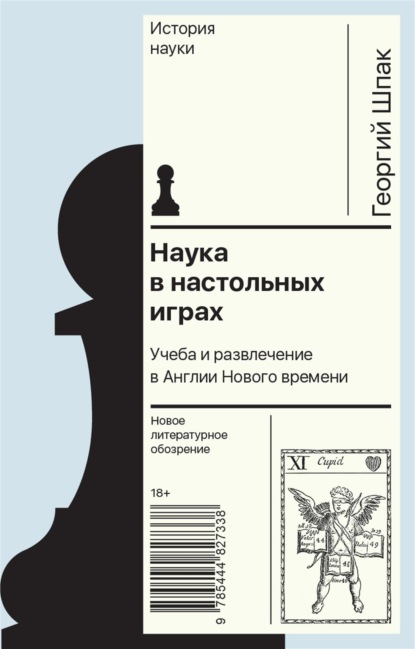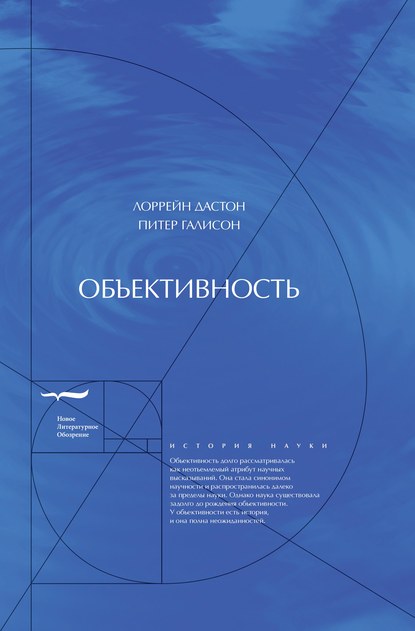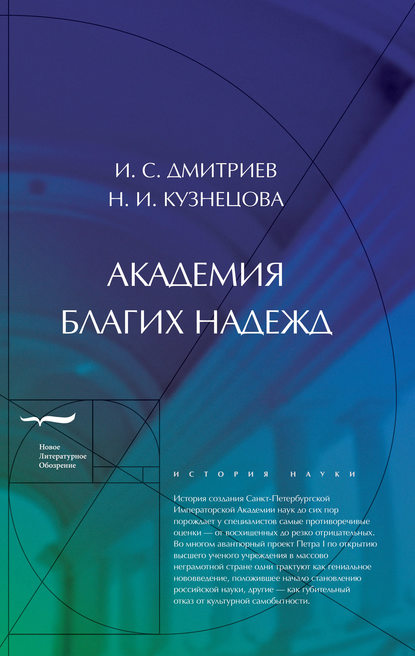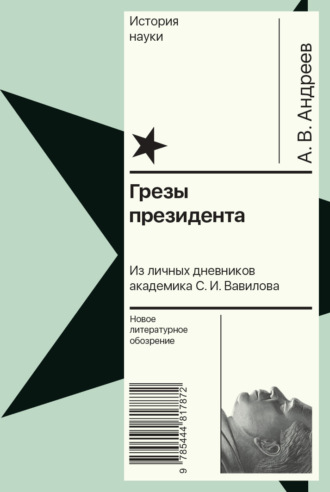
Полная версия
Грезы президента. Из личных дневников академика С. И. Вавилова

Андрей Васильевич Андреев
Грезы президента. Из личных дневников академика С. И. Вавилова
© А. В. Андреев, 2022
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2022
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022
* * *Я из Достоевского или Hofmann’a, а об этом никто не подозревает.
С. И. ВавиловПредисловие
Несколько улиц Вавилова в разных городах, несколько институтов его имени – вот, пожалуй, максимум того, что может знать о Сергее Ивановиче Вавилове нынешний среднеобразованный обыватель. Люди постарше связывают фамилию Вавилова в первую очередь с трагической историей его старшего брата Николая (1887–1943), выдающегося биолога, павшего жертвой сталинских репрессий, – у Сергея Вавилова в этой истории роль второго плана. Специалисты знают о значительном вкладе С. И. Вавилова как научного администратора в становление науки в СССР. Он был первым физиком – президентом Академии наук, руководил несколькими ведущими физическими институтами, наладил производство отечественных люминесцентных ламп. Можно узнать, что он был главным редактором Большой советской энциклопедии, первым председателем Всесоюзного общества «Знание», автором научно-популярных книг и историком физики. Хорошим физиком-оптиком, наконец.
Но научный администратор (чиновник, «сталинский бюрократ») – это все-таки не слишком интересно, таких было много. Научные достижения Вавилова-физика тоже не на слуху. П. Л. Капица (1894–1984) в письме к Э. Резерфорду (1871–1937) писал иронично о Вавилове-ученом в начале 1936 г.: «…работы его относятся к флуоресценции жидкостей. Знаете, такого сорта есть работы, когда вы пропускаете пучок света через сосуд, наполненный жидкостью, и наблюдаете свет по перпендикулярному направлению. Стоит один раз сделать аппаратуру, и вы можете играть всю жизнь, меняя жидкости, число которых огромно, можете также менять спектры первичного пучка. Комбинаций, таким образом, будет столько, что научный сотрудник всю свою жизнь будет при деле, испытывая при этом чувство удовлетворения от сознания того, что он занят научной работой. Ничего иного он никогда не сделал» ([Капица, 1989], с. 64–65).
В 1958 г. за открытое в ходе таких «игр» излучение Вавилова – Черенкова была тем не менее присуждена Нобелевская премия по физике (сам Вавилов до этого дня не дожил, а премия посмертно не вручается). Излучение Вавилова – Черенкова нашло широчайшее применение в физике. Но чаще всего оно называется – без упоминания Вавилова – просто «черенковским» по имени аспиранта, заметившего свечение.
Что же касается скучного образа Вавилова-администратора, то тут все еще более запутанно, чем с его вкладом в физику. С одной стороны, его пятилетнее руководство академией пришлось на годы, когда отечественная наука начинала свой самый бурный количественный рывок за всю историю: именно при Вавилове-президенте статус ученого в глазах обывателя взлетел до невиданных высот – «академик» стало звучать чуть ли не как «генерал». При Вавилове резко повысился достаток научных работников, было начато масштабное строительство десятков новых институтских зданий (яркий пример – университетский комплекс в Москве на Ленинских горах). С другой стороны, по сравнению с учеными-администраторами Курчатовым и Королевым фигура Вавилова в общественном сознании отнюдь не кажется такой уж крупной. Ему была отведена скорее роль свадебного генерала от науки на всевозможных торжественных мероприятиях вроде юбилея Пушкина или Сталина. Создание ядерного оружия в годы, когда Вавилов стоял во главе советской науки, было лишь косвенно связано с деятельностью Вавилова на посту президента АН СССР: военно-промышленный комплекс жил тогда своей практически автономной жизнью. В то же время физики, начинавшие свой путь при Вавилове (многие из которых стали выдающимися учеными), единодушны в оценке Вавилова как идеального научного администратора. Академик и нобелевский лауреат И. М. Франк (1908–1990) писал о своем учителе: «Подвиг, совершенный им за пять с небольшим лет его пребывания на посту президента, велик, сделанное им так прекрасно и обширно, что будущие поколения будут вспоминать о нем с глубочайшим уважением и благодарностью» ([Франк, 1991], с. 49). Вавилов поддерживал и инициировал передовые направления исследований, неочевидные по своей скорой «народно-хозяйственной» отдаче, обеспечил подбор талантливых кадров и продвижение молодежи, предоставлял ученым практически полную свободу научной работы. Ко всему этому, судя по многочисленным опубликованным за более чем полвека, прошедшие с его смерти, воспоминаниям, полным искренней теплоты, он еще и человеком был хорошим… при этом подписывавшим статьи «Великий корифей науки (И. В. Сталин)» и «Научный гений Сталина» и произносившим соответствующие речи на торжественных мероприятиях. Вавилов возглавлял Академию наук в годы разгрома генетики и аналогичных погромов в других естественных и гуманитарных науках. Именно на вторую половину сороковых пришлись позорные идеологические кампании против низкопоклонства перед Западом, борьба с безродными космополитами, отстаивание отечественного приоритета в изобретении паровоза и открытии Ломоносовым великого закона Ломоносова.
В итоге образ орденоносца, четырежды лауреата Сталинской премии академика С. И. Вавилова получается крайне противоречивым. Оценки его деятельности располагаются в диапазоне от восторженных (или просто одобрительных – таких подавляющее большинство) до резко негативных (например, у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ»). В книге «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки» Вавилов и вовсе назван «выдающимся, героическим конформистом» ([Шноль, 2010], с. 13).
После недавней публикации дневников Вавилова ситуация запутывается окончательно. Становятся известными детали его самобытной личной философии: острый интерес к проблемам сознания, веры, теме смерти, другим вопросам, о которых вообще не подобало бы задумываться председателю Всесоюзного общества «Знание». «Нужно величайшее открытие какой-то мировой души, бога, чтобы поддерживать жизнь в таких, как я». «Стоял на трибуне и думал о сознании. Сон без сознания. Смерть без сознания. У шестимесячного Сережи почти еще не проснувшееся сознание. Люди слишком мало об этом думают». О желании умереть академик Вавилов пишет в дневниках более 150 раз. И неоднократно всерьез опасается, что сходит с ума. Хотя бы потому, что думает и пишет обо всем этом.
Именно такие необычные фрагменты из дневников Вавилова – странные философские прозрения, переживания, фантазии, мечты, сновидения – и отобраны в эту книгу.
Текст состоит из двух частей. Вторая часть целиком посвящена философским взглядам Вавилова, первая более биографична. Три раздела первой части хронологически определяются сохранившимися дневниками (1909–1916, 1917–1938, 1939–1951) и предваряются тремя краткими очерками важнейших событий жизни Вавилова. В отдельные главы первой части выделены также некоторые дополнительные темы («Мечты Вавилова», «Поэзия Вавилова», его общественно-политические взгляды и т. п.).
1909–1916
Краткая биография[1]. 1891–1916
Сергей Иванович Вавилов родился и вырос в обеспеченной семье в Москве, в районе Пресня (дома, принадлежавшие в разное время Вавиловым, не сохранились). Отец Иван Ильич Вавилов (1863–1928), из крестьян, был купцом первой гильдии, соучредителем торговой фирмы «Удалов, Ипатьев, Вавилов», связанной с Трехгорной мануфактурой Прохоровых – старейшим московским текстильным предприятием. С 1918 г. был в эмиграции, вернулся в 1928 г., но через две недели умер (сердце). Мать Александра Михайловна (1868–1938) – дочь резчика и гравера при той же Трехгорной мануфактуре. Старшая сестра С. И. Вавилова Александра (1886–1940) стала врачом-бактериологом. Старший брат Николай (1887–1943) окончил Московский сельскохозяйственный институт, стал всемирно признанным ботаником-генетиком. Младшая сестра Лидия (1893–1914), микробиолог, трагически погибла в 1914 г. Младший брат Илья (1898–1905) умер в семилетнем возрасте. Были также умершие очень рано и не упомянутые в дневниках сестра и брат Екатерина и Василий.
Учился С. И. Вавилов в Коммерческом училище, одном из лучших московских средних учебных заведений, в котором большое внимание уделялось естественным наукам и иностранным языкам. Отличником он не был, но с ранних лет явно тянулся к культуре, много читал (и на всю жизнь полюбил букинистические лавки), в старших классах был лидером в интеллектуальном «кружке» одноклассников, писал стихи и философские трактаты. Целью училища было готовить будущих коммерсантов, но Сергей (как и учившийся там же старший брат Николай) по этому пути изначально идти не собирался. Важную роль в жизни Вавилова сыграл преподаватель рисования И. Е. Евсеев (1865 – после 1947): по всей видимости, под его влиянием Вавилов чрезвычайно серьезно увлекся искусством, в дневниках поездок в Италию (молодой Вавилов побывал там трижды и буквально влюбился в эту страну) многие десятки страниц посвящены живописи и архитектуре. Но не меньшее место в жизни подростка-Вавилова изначально занимала наука: вначале в виде мальчишеских опытов («кухонная» химия, эксперименты с электричеством и т. п.), затем как серьезная цель жизни – Вавилов решил поступать на физико-математический факультет университета. Для этого пришлось выучить и экстерном сдать латынь, которую не преподавали в Коммерческом училище. С сентября 1909 г. Вавилов – студент физико-математического факультета Московского университета.
Уже на втором курсе, в 1911 г., Вавилову удается попасть в знаменитую лабораторию П. Н. Лебедева (1866–1912). К сожалению, последовавший буквально через пару месяцев вынужденный уход Лебедева из университета (вместе с группой других преподавателей – в знак протеста против антилиберальной деятельности ректора), а затем и смерть в марте 1912 г. не дали Вавилову в полной мере стать учеником этого выдающегося физика. Научное руководство Вавиловым перешло к младшему коллеге и ученику Лебедева П. П. Лазареву (1878–1942), в то время изучавшему процессы фотохимического выцветания красителей. Это определило будущий научный путь Вавилова – как физика-оптика, специалиста по люминесценции: выцветанию красителей была посвящена его первая научная публикация (1914). В мае 1914 г. Вавилов окончил университет с дипломом первой степени и получил предложение остаться на кафедре физики «для подготовки к профессорскому званию» (аналог современной аспирантуры). Вавилов не принял это предложение и был призван в армию.
Призванные после получения высшего образования становились «вольноопределяющимися» – несли военную службу на льготных условиях (сокращенный срок службы, право жить на собственные средства вне казарм, особенности в форме одежды). В июне 1914 г. Вавилов прибыл в Любуцкий лагерь 25-го саперного батальона 6-й саперной бригады Московского военного округа, а уже 1 августа началась война.
На фронте Вавилов находился все четыре года войны, лишь изредка приезжая в отпуск домой, сначала в саперных частях, занимавшихся – порой в опасной близости от мест боевых действий – строительством дорог и мостов («военно-дорожный отряд», «в. д. о.»), затем, с июня 1916 г., после прохождения курсов в Минске, в радиочастях (до августа 1916 г. – в радиоподразделении гвардейской кавалерийской дивизии). Он был последовательно рядовым, ефрейтором, младшим и старшим унтер-офицером, прапорщиком. Вместе с войсками побывал в Галиции, Белоруссии, Польше, Литве. Незадолго до конца войны на два дня попал в плен к немцам, бежал и в феврале 1918 г. окончательно вернулся домой (эти эпизоды биографии Вавилова в сохранившихся дневниках, к сожалению, не отражены: последняя запись датируется 28 декабря 1916 г.).
Такова вкратце внешняя сторона жизни Вавилова до 1917 г. «Внутренняя» ее сторона – то, о чем 18–25-летний Сергей Вавилов, пока еще не президент Академии наук и даже, по сути, еще не физик, размышлял, тревожился, мечтал, – подробно описана на страницах нескольких потрепанных блокнотов и тетрадей.
Планы, цели и мечты (1909–1916)
Выдуманный мир, которого пока что нет, но который вполне может появиться в будущем, – мир жизненных целей. Некоторые дневниковые записи (часто 1 января или в день рождения) Вавилов посвящал планам и мечтам.
«Со вчерашнего дня мне пошел 20-й год. ‹…›[2] В прошлом году я пожелал себе жития на сто лет и университета. От первого, конечно, и теперь не откажусь, второе достигнуто, и теперь я желаю себе только одного, прямолинейности трамвая и скорости автомобиля на пути к науке» (13 марта 1910).
«На очереди три большие задачи 1) физика, 2) языки и 3) освобождение от всякого рода белиберды. Надо только всем существом почувствовать необходимость» (16 мая 1911).
«…я желаю счастья, воли и покоя. Сбросить все третье – вот задача на этот год. Сбросить все лишнее – усложняющее, упростить жизнь, сделать ее целой и красивой – вот и все» (1 января 1913).
«Чего я сейчас хочу? 1) Покончить скорее с моей комической работой в лаборатории. Только теперь разглядел я всю ее чепуху. 2) Найти какой-нибудь хороший исход в военной службе (а я бы, право, хотел послужить). 3) Счастья. Das ist alles[3]» (7 декабря 1913).
«Физика, милая физика, как далека ты от меня сейчас. Но, что сделать? Делай что возможно, но не упускай ее – вот первая и главная задача. // Война… а я не воин, но и тут делай хотя бы что-нибудь нужное. А остальное – ну, это просто поставить себя в условия сносной жизни, добиться хотя бы белых погон [прапорщика]» (1 января 1915).
Планы, цели, мечты, желания фиксировались в дневнике настолько часто, что сами по себе могут использоваться для периодизации жизни Вавилова.
Вначале он мечтает покончить со школой и поступить в университет. «Мелькнула сегодня в голове мысль о школе ‹…› какая же радость, что через 5 месяцев – jamais, jamais[4]. Вон из этой выгребной ямы купеческих нечистот» (2 января 1909).
Поступив в университет, Вавилов мечтает стать настоящим ученым: «Когда наука станет для меня обыденщиной, только тогда я буду доволен» (27 января 1910); «Я погружаюсь в нирвану: в старину, в искусство, а нужна наука, она единая. Я люблю ее, все остальное сор и мишура перед нею, я молюсь ей, но не вхожу в нее. „Доколь же, доколь“. О, явись sancta „vis motricis impressa“[5], помоги inertiae[6]» (16 февраля 1911); «Наука, как цель жизни ‹…› Наука серьезна, наконец нашел я это слово, и право же всерьез собираюсь я „для науки „жизни“ не пощадить“» (23 июня 1912); «Здесь, около могилы Галилея, почти клянусь делать только дело и серьезное, т. е. науку. Пусть ничего не выйдет, но будет удовлетворение» (17 июля 1913); «На свете лучшее – физика. Физика – это наука, и наука – это физика. Все остальные – с математики, астрономии до зоологии и ботаники – только ее прислужники. В физике нет ни капли служебности. Сама в себе. Быть физиком и даже таким плохим, как я, – уже счастье. Быть физиком – это значит хоть час в день чувствовать себя хорошо. С какою гордостью говорю я, что я физик» (12 октября 1913).
Стать наконец настоящим ученым Вавилову мешают две вещи: лень и неправильные, по его мнению, прежние увлечения.
Для достижения цели нужно напряженно работать! Вавилов постоянно пишет, как он хочет наконец начать делать дело, трудиться «как каменщик» (7 сентября 1910). Это одно из главных его желаний в первые пару лет обучения в университете. «…сидеть бы, да дело делать» (7 июля 1909). «Все мои дневники заполнены воздыханиями о работе, но ее не было, потому что не было необходимости, потому что ее загораживала ложно-работа – школа. Теперь свободен, мне только одно и можно и должно работать» (10 сентября 1909). «…мне необходимо делать, трудиться, заниматься как лошади» (18 октября 1909). «…дело не идет; математика плохо усваивается, и вместо вычислений начинаешь чертить карикатуры, бродишь без толку, а самому хочется работать. Это состояние самый опасный враг мой… Почему я всегда хочу работать, творю из работы бога? Сам не знаю почему. В работе я чувствую себя здоровым, свежим, без нее я делаюсь меланхоликом» (9 января 1910). «Мне надо, необходимо, неизбежно делать. Но я… могу помечтать, могу чуть-чуть поработать, стряпать планы, читать газеты, но мало, слишком мало дела…» (1 февраля 1910). «Нужно или еще ускорить шаг раза в три, чтобы хоть чего-нибудь достигнуть, или опять heu mihi[7] обратиться вспять. Завожу старую волынку: дай, мол, попробую первого» (20 февраля 1910). «Каждый день я собираюсь начинать, откладываю на другой день и не делаю ничего. Что делать? Не что, а просто „делать“, в этом и ответ» (26 апреля 1911).
На пути к поставленной цели стать настоящим физиком Вавилова постоянно отвлекали его неправильные увлечения – литература, поэзия, искусство. Подросток Вавилов, судя по всему, считал себя «гуманитарием» и даже, более того, философом. В интеллектуальном кружке одноклассников «диапазон вопросов был громадный: философия, литература, искусство и политика (правда, в очень умеренном виде). Но вывозить приходилось мне» ([Франк, 1991], с. 117–118). Также Вавилов с подлинной страстностью относился к живописи и архитектуре, занимался, как он сам выражается, «вопросами искусства»: «…вот уже три года, как я более или менее сильно занимаюсь этими вопросами, и главным, конечно, о сущности искусства» (12 января 1909). Многие и многие страницы дневников посвящены описанию увиденных в Италии картин, мыслям о любимых художниках (Леонардо да Винчи, Джорджоне, Пьеро делла Франческа и др.). Также Вавилов очень много читал. В дневнике часто цитируются Пушкин, Тютчев, Фет, Баратынский. Любимые писатели Вавилова – Гоголь, Гофман, Достоевский, Франс. Неоднократно упоминаются Д. С. Мережковский (1866–1941), В. С. Соловьев (1853–1900), В. В. Розанов (1856–1919). Наконец, Вавилов не только читает, но и сам пишет – стихи (подборка стихов Вавилова приведена в конце первого раздела). Он часто ходит в театр, на концерты. Именно с этой всей «белибердой» Вавилов и вступает в борьбу на пути в «настоящую науку». «Как бы хорошо сейчас освободиться от лишнего груза, приставшего за 20 лет бытия, и оставить только физику» (5 июня 1911). «Надо бросить под печку поэзию, а браться за науку» (4 сентября 1911). «…пора бы мне, может, и плюнуть совсем на картины… и даже на Италию и заняться физикой. Там единственно несомненное, важное, серьезное и святое, и интересное» (30 июня 1913). «…плюнуть на искусство и уйти совсем в науку» (14 июля 1913). «К черту искусство и прочее» (25 июля 1913). Единственное отвлечение от науки, которым Вавилов не готов пожертвовать, – книги. На фронте он порой буквально изводится без нового чтения, мучительно ждет посылок из дому с книгами (и с шоколадом). Часто пишет примерно так: «Думаю о прошлом, мечтаю о будущем, о Москве, матери, о книгах. А настоящее sei sie verfluchkt[8]» (29 ноября 1914). «Думаю только о себе, Лиде (сестре. – А. А.), матери, книгах и о конце» (30 ноября 1914). Еще примерно в десятке записей военной поры Вавилов мечтает буквально через запятую о родном доме и о книгах. И примерно столько же – об уютной лаборатории с библиотекой. «Вот попаду снова к себе, „к книгам милым“ моим – тогда все пойму и оценю, а сейчас я все время живу как оглушенный» (30 июня 1915). «…больше, чем когда-либо, хочется бежать домой к книгам, в лабораторию и забыться» (18 июля 1915). «Скорее бы хотя бы самообман книг, старых запыленных книг» (21 октября 1915). «Поскорее бы к книжкам и опомниться» (16 декабря 1915).
Многие зафиксированные в дневнике желания, планы и мечты Вавилова не особо интересны: путешествовать, изучить иностранные языки, сдать экзамены и т. п. В армии Вавилову хочется домой (около двух десятков записей), поехать в отпуск, он мечтает перевестись в другую часть (с десяток записей) или получить звание прапорщика. Также он, разумеется, мечтает о победе, скором конце войны.
Его прежние, «довоенные» мечты приобретают на фронте новый облик. Собираясь в армию, еще не зная о будущей войне, Вавилов довольно наивно планирует (16 июня 1914) продолжать заниматься наукой: «Буду заниматься физикой ‹…› а на сон грядущий читать романы. Завел себе толстые тетради 1) для выписок, 2) для кратких рефератов, 3) для физических соображений. // Это 3-е главное дело, ибо безусловно необходимо найти собственную (т. е. независимо от П. П. [Лазарева]) тему работы. Меня все время влечет проблема гравитации… Это бесспорно наиболее ценное в физике» (16 июня 1914). Далее на протяжении всех лет войны примерно в десятке записей он действительно упоминает Gravitationsproblem (как предпочитает ее называть), 27 октября 1915 г. обещает решению этой проблемы посвятить жизнь. «От тоски (иногда раздирающей) спасаюсь у физики, начинаю опять обдумывать разные проекты, как бы экспериментально зацепить „Grav[itation] problem“» (30 октября 1915). Фронтовая реальность вносит коррективы, Вавилову приходится мечтать уже не о занятии столь утонченными темами, а вообще хоть о какой-то физике. «Следовало бы физику не забывать и хотя бы мечтать физически. ‹…› Господи, дай скорее вернуться к физике! (до того скверно, что плачу, когда пишу эти строки)» (29 сентября 1914). Десятки раз Вавилов буквально грезит о науке. «…в сладком сумраке рентгеновского кабинета как хорошо бы делать рентгенограммы и копаться в загадке вещества…» (12 октября 1914). «Оживляешься ведь, в сущности, единственно надеждой на конец. Как одеревенеет за эти ½ года моя физика, бедная физика, попробую хоть помечтать о фотохимии и Gravity Problem etc.» (4 ноября 1914). Он сам называет это ощущение «тоской по физике» (6 декабря 1914). «…перед глазами опять Москва, книги и физика» (25 марта 1915). Летом 1915 г. Вавилов пишет в армии и отсылает в Москву короткую заметку (к сожалению, концептуально неверную) о методической ошибке в знаменитом опыте Майкельсона, давшем толчок возникновению теории относительности, ее публикуют в «Вестнике опытной физики и элементарной математики». В мае 1916 г. Вавилов добивается перевода на радиотелеграфные курсы и затем в соответствующие подразделения армии и гвардии, начинает увлеченно работать со сложным радиооборудованием (в 1919 г. он даже публикует научную статью по итогам этого эпизода своей жизни), и острая тоска по физике немного стихает.
Однако описанная «тоска по науке» проявляется также еще и в более сложном и интересном комплексе образов. Можно обозначить его вслед за самим Вавиловым словами dumpfes Mauerloch. «Verfluchtes dumpfes Mauerloch» – это описание чернокнижником Фаустом своей тесной захламленной лаборатории в трагедии И. В. Гете «Фауст» (сцена 1), дословно – «проклятая скучная дыра в стене». Вавилов использует это немецкое выражение для обозначения лаборатории и, шире, своего идеала занятий наукой. «В эти тяжкие минуты погрузиться бы в океан книг, замкнуться в свой dumpfes Mauerloch, корпеть над Gravitation’s Problem» (10 июня 1915). Перед войной Вавилов трижды пишет о своем разочаровании в лабораторной работе, наступившем после смерти П. Н. Лебедева, например так (26 апреля 1913): «Еще одно страшное желание приходится выговаривать, надо постараться покончить с лабораторией». Но образ не конкретной московской людной лаборатории, а лаборатории абстрактной, обобщенной, становится одним из навязчивых образов в его армейских мечтаниях о занятиях наукой. «Запереться бы от всяких газет и войны в лаборатории с библиотекой» (1 октября 1914). «Mauerloch с книгами и лабораторией лучше всякого мира» (8 октября 1914). «Суждено или нет мне то, о чем мечтаю, – тишь лаборатории и библиотеки» (18 марта 1915). К этому образу дополнительным штрихом неожиданно становится лес и монастырская келья. «Мне только два пути спасения „in Museum“[9] и „в лесу“» (20 апреля 1916). Еще до армии Вавилов дважды пишет: «…я всерьез иногда думаю о монастыре. ‹…› Книги, келья и лес – больше ничего не надо» (15 июля 1913), «…высшим счастьем теперь кажется уйти в лес. ‹…› Но в лес я хочу с книгами. ‹…› Ах, книги, лаборатория и лес – вот и paradiso ritrovato[10]» (28 января 1914). Этот образ сохраняется и в последующие годы. «Смотрю на леса на горизонте, синие и дикие. Хорошо бы убежать в эту дичь и чащи и поселиться где-нибудь под землей, под мхом и корнями, зажать уши, не слушать выстрелов, не говорить о безнадежной войне, читать, работать в лаборатории и в конце концов так умереть» (27 августа 1915).