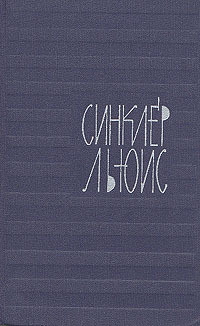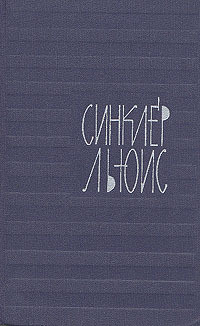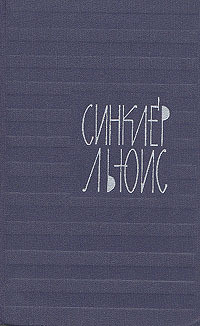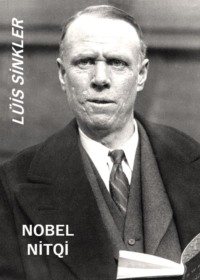Полная версия
У нас это невозможно
Что же, мы уже привыкли к этому! Но как раз сегодня днем… в газетах этого еще нет… попечительский совет при участии мистера Фрэнсиса Тэзброу и нашего директора доктора Оуэна Пизли принял на своем заседании следующее постановление – вы только послушайте, доктор Джессэп: «Всякий преподаватель или студент Исайя-колледжа, который каким бы то ни было образом – публично, или частным образом, в печати, или письменно, или в устном разговоре – будет высказываться против военного обучения в Исайя-колледже или в каком-либо другом учебном заведении Соединенных Штатов, производимого войсками отдельных штатов, или федеральными войсками, или другими официально признанными военными организациями нашей страны, – подлежит немедленному исключению из колледжа, а всякий студент, который доведет до сведения председателя или любого из попечителей колледжа о такой злостной критике со стороны лица, так или иначе связанного с колледжем, получит хорошие отметки по курсу военного обучения, каковые будут зачтены ему при окончании колледжа».
Вот с какой быстротой идем мы к фашизму!
Виктор Лавлэнд».А ведь Лавлэнд, преподававший греческий, латынь и санскрит (двум унылым студентам), до сих пор никогда не вмешивался в дела политические, относящиеся к периоду более позднему, чем 180-й год после Рождества Христова.
«Значит, Фрэнк был на этом заседании попечительского совета и не решился рассказать мне, – подумал Дормэс. – Поощряют студентов быть шпионами! Гестапо! О мой дорогой Фрэнк, серьезные настали времена! Хоть ты и тупица, а правду сказал! Директор Оуэн Пизли, надутый ханжа, разбойник, горе-педагог. Но что я могу сделать? Ох… разве только написать еще одну передовую, сигнализирующую об опасности?»
Он повалился в глубокое кресло и сидел в нем, беспокойно ерзая, как маленькая встревоженная птица с блестящими глазами.
За дверью послышался шум, настойчивый, требовательный.
Он открыл и впустил Фулиша, их собаку. Фулиш был помесью английского сеттера, эрдельтерьера, охотничьего спаниеля, боязливой лани и рычащей гиены. Он отрывисто гавкнул в знак приветствия и прижался коричневой атласной головой к коленям Дормэ. От его лая проснулась канарейка в клетке, покрытой нелепым старым синим свитером; ее веселое щебетание возвестило полдень, жаркий летний полдень среди грушевых деревьев на зеленых холмах Гарца, что было ни с чем не сообразно. Но щебетание птички и присутствие преданного Фулиша успокоили Дормэса; ему уже не казались важными и военное обучение, и изрыгающие угрозы политиканы, и, успокоенный, он уснул в своем старом кожаном кресле.
IV
Всю эту июньскую неделю Дормэс с нетерпением ждал, когда же наступит суббота, два часа дня, – ведь сам бог назначил это время для еженедельного пророчества епископа Пола Питера Прэнга по радио.
Сейчас, в 1936 году, за шесть недель до начала партийных съездов, было уже вполне очевидно, что ни Франклин Рузвельт, ни Герберт Гувер, ни сенатор Ванденберг, ни Огден Миллз, ни генерал Хью Джонсон, ни полковник Фрэнк Нокс, ни сенатор Бора не будут выставлены ни одной из партий кандидатами на пост президента и что знаменосцем Республиканской партии, то есть как раз тем, кому никогда не приходится тащить большое, надоевшее и немного смешное знамя, будет верный своей партии и при этом честный старомодный сенатор Уолт Троубридж[7]. В этом человеке было что-то от Линкольна, что-то напоминало Уилла Роджерса и Джорджа Норриса, что-то неуловимо роднило его с Джимом Фарлеем, а во всем остальном он был все тем же простым, грузным, невозмутимым и независимым Уолтом Троубриджем.
Не оставалось также сомнений, что кандидатом Демократической партии станет этот ракетой взвившийся сенатор Берзелиос Уиндрип и что Уиндрип, по существу, лишь маска с громовым голосом, за которой скрывается сатанинский мозг – секретарь Уиндрипа Ли Сарасон.
Отец сенатора Уиндрипа был аптекарем в маленьком городишке на Западе; честолюбивый неудачник, он назвал сына Берзелиос по имени шведского химика[8]. Все знали его под именем «Бэз». Он прошел курс обучения в одном из южных баптистских колледжей, потом обучался в Джерси-сити, затем в Чикагской школе права и в завершение всего обосновался в своем родном штате, чтобы заняться адвокатской практикой и оживить местную политическую жизнь. Он неутомимо разъезжал по штату, произносил пылкие и веселые речи, вдохновенно отгадывал, какие политические доктрины будут иметь успех у публики; он умел горячо пожать руку и охотно давал взаймы деньги. Он пил кока-колу с методистами, пиво – с лютеранами, калифорнийское белое вино – с деревенскими лавочниками-евреями и, когда никто посторонний не видел, пил с ними со всеми виски.
В течение двадцати лет он так же неограниченно правил в своем штате, как султан в Турции.
Он никогда не был губернатором: он был достаточно проницателен, чтобы понимать, что его репутация знатока по части рецептов изготовления пунша, разновидностей покера и психологического подхода к стенографисткам обречет его на провал у благочестивых избирателей, и он удовольствовался тем, что водворил на губернаторское место сельского учителя, эдакую дрессированную блеющую овцу, которую он весело тащил за собой на широкой голубой ленте. Жители штата были уверены, что получили «хорошее управление», – благодаря Бэзу Уиндрипу, а не губернатору.
Уиндрип был инициатором строительства автомобильных дорог и объединенных сельских школ; он заставил администрацию штата купить тракторы и комбайны и предоставить их фермерам во временное пользование за определенную плату. Он был уверен, что в будущем Америка завяжет тесные деловые отношения с русскими, и, хотя презирал всех славян, заставил университет своего штата впервые на Западе ввести в программу курс русского языка. Самым оригинальным его изобретением было увеличение численности войск этого штата в четыре раза и награждение лучших солдат тем, что им предоставлялась возможность изучать сельское хозяйство, авиадело, радиотехнику и технику автомобильного дела.
Солдаты смотрели на него, как на своего генерала и своего бога, и когда генеральный прокурор штата заявил, что намерен предать Уиндрипа суду за расхищение 200 тысяч долларов из налоговых средств, войска стали на защиту Бэза Уиндрипа, словно это была его личная гвардия; заняв помещения всех судебных и других государственных учреждений и установив пулеметы на улицах, ведущих к Капитолию, они изгнали врагов Уиндрипа из города.
Он воспринял свое избрание в сенат как осуществление собственного наследственного права. В течение шести лет единственным человеком, оспаривавшим у него славу самого шумливого и беспокойного человека в сенате, был покойный Хьюи Лонг из Луизианы.
Он проповедовал утешительное евангелие перераспределения богатств, при котором на долю каждого жителя страны приходилось бы по нескольку тысяч долларов в год (что касается точного количества тысяч, то оно у Бэза ежемесячно менялось), но и богатые могли бы существовать безбедно при ограничении их доходов до 500 тысяч долларов в год. Таким образом, перспектива избрания Уиндрипа президентом сулила всем счастье.
Преподобный доктор Эгертон Шлемиль, настоятель кафедрального собора Св. Агнесы в Сан-Антонио (Техас), заявил (раз в проповеди, раз в слегка отредактированном отчете о проповеди в газетах и семь раз в интервью), что приход Бэза к власти будет подобен «благостному всеоживляющему дождю, пролившемуся на запекшуюся и жаждущую почву». Доктор Шлемиль ничего не сказал о том, что будет, если благостный дождь будет лить четыре года подряд.
Никто, и даже вашингтонские корреспонденты, в точности не знал, сколь значительная роль в карьере сенатора Уиндрипа принадлежала его секретарю Ли Сарасону. Когда Уиндрип впервые пришел к власти в своем штате, Сарасон был главным редактором самой распространенной газеты в этой части страны. Происхождение Сарасона было и осталось тайной.
Говорили, что он уроженец Джорджии, Миннесоты, Ист-Сайда в Нью-Йорке, Сирии; что он чистокровный янки, еврей, чарлстонский гугенот. Было известно, что юношей он проявил исключительную храбрость, когда служил лейтенантом пулеметной части во время мировой войны, и что потом он еще года три-четыре слонялся по Европе: работал в парижском филиале нью-йоркского «Геральда»; занимался живописью и вопросами черной магии во Флоренции и Мюнхене; несколько месяцев изучал социологию в Высшей экономической школе в Лондоне; якшался с чрезвычайно странной публикой в ночных ресторанах Берлина. Вернувшись на родину, Сарасон сразу заделался «бесстыжим репортером», уверявшим, что лучше пусть его назовут «проституткой», чем «слюнтяем-журналистом». Подозревали все же, что, несмотря на это, он сохранил способность читать.
Ему случалось быть то социалистом, то анархистом. Даже в 1936 году кое-кто из состоятельных лиц утверждал, что Сарасон слишком «радикален», но в действительности он потерял веру в массы (если у него таковая была) в период оголтелого послевоенного национализма и верил теперь только в твердую власть немногочисленной олигархии. Тут он был настоящий Гитлер, настоящий Муссолини.
Сарасон был сухопарый, сутулый человек, с редкими бесцветными волосами и толстыми губами на костлявом лице. Его глаза были подобны искрам на дне двух темных колодцев. В его длинных руках была какая-то бескровная сила. Он обычно поражал тех, кто здоровался с ним за руку, – вдруг заламывал им пальцы назад с такой силой, что чуть не ломал их. Это мало кому нравилось. Как газетный работник он был специалистом высшей марки. Он умел разнюхать дело о мужеубийстве, о подкупе политического деятеля, – разумеется, такого, который принадлежал к группировке, враждовавшей с его газетой, – об истязании животных или детей, причем сообщения последнего рода он любил писать сам, не поручая их репортерам, и тогда вы ясно видели перед собой промозглый погреб, слышали звуки хлыста и ощущали липкую кровь.
По сравнению с газетчиком Ли Сарасоном маленький Дормэс Джессэп из Форта Бьюла был примерно тем же, чем является сельский священник по сравнению с получающим 20 тысяч долларов дохода священнослужителем двадцатиэтажного радиофицированного нью-йоркского молитвенного дома.
Сенатор Уиндрип официально числил Сарасона своим секретарем, но все знали, что Сарасон далеко не только секретарь: он и телохранитель, и вдохновитель, и советник по рекламе и финансам. В Вашингтоне Ли Сарасон стал тем человеком, с которым больше всех считались и которого меньше всех любили корреспонденты газет в вашингтонском сенатском управлении.
Уиндрип в 1936 году был молодым сорокавосьмилетним человеком; Сарасон же в свои сорок лет был пожилым человеком со впалыми щеками.
Надо полагать, что Сарасон пользовался заметками, продиктованными Уиндрипом, хотя он и сам обладал достаточно смелой фантазией; несомненно, что это он фактически написал единственную книгу Уиндрипа, библию его последователей, представляющую собой смесь автобиографии, экономической программы и развязной похвальбы, под названием «В атаку».
Это была острая книга, содержавшая больше планов преобразования мира, чем все романы Герберта Уэллса, вместе взятые.
Самым популярным и, пожалуй, наиболее часто цитировавшимся отрывком из книги «В атаку» – отрывком, который полюбился провинциальной печати за простоватую грубость (хотя писал его человек, посвященный в тайны оккультных наук, именуемый Сарасон), был следующий:
«Когда я еще был ребенком и носился по полям, мы, мальчишки, обходились одной помочей на штанах и говорили попросту «штаны», «помочи». Эта помоча охраняла нашу скромность не хуже, чем если бы мы церемонничали и говорили «подтяжки» и «брюки». Вот так же обстоит дело и с так называемой «научной экономикой». Марксисты думают, что если они называют помочи подтяжками, то этим они начисто обесценивают старомодные идеи Вашингтона, Джефферсона и Александра Гамильтона. Что до меня, то я приветствую использование любого экономического открытия, имевшего место в так называемых фашистских странах – в Италии, Германии, Венгрии и Польше и даже, черт возьми, в Японии! Быть может, нам когда-нибудь придется задать жару этим маленьким желтолицым человечкам, чтобы они не ущемляли наши вполне законные интересы в Китае, но из-за этого мы ни в коей мере не должны пренебрегать некоторыми хитроумными идеями, разработанными этими способными пронырами.
Я хочу, выпрямившись во весь рост, во всеуслышание заявить, что нам надо во многом изменить нашу систему, может быть, изменить даже всю конституцию (но изменить законно, а не путем насилия), поднять ее от эпохи езды на лошадях по проселочным дорогам до уровня нашей эпохи автомобилей и бетонных шоссе.
Исполнительная власть должна получить большую свободу действий и иметь возможность быстро и решительно действовать в нужных случаях; ее не должна связывать масса пройдох-адвокатов, членов конгресса, которым требуются месяцы на то, чтобы выговориться во время прений. Но – и это «но» такое же большое, как сарай с сеном в усадьбе дьякона у нас в деревне, – эти экономические нововведения являются только средством для достижения Цели, а Цель в основном остается неизменной: это все те же принципы свободы, равенства и справедливости, в защиту которых выступали наши предки, основоположники этой великой страны, в 1776 году».
Самым запутанным и непонятным в предвыборной кампании 1936 года было взаимоотношение обеих руководящих партий. Старая гвардия республиканцев жаловалась, что их гордая партия оказалась на положении бедного просителя; ветераны Демократической партии выражали недовольство тем, что их традиционные крытые фургоны битком набиты университетскими профессорами, городскими жуликами и владельцами яхт.
Соперником сенатора Уиндрипа в сердцах народа был политический титан, которого, казалось, не должны были интересовать никакие посты, – преподобный Пол Питер Прэнг из Персеполиса (Индиана), епископ методистской епископальной церкви, человек лет на десять старше Уиндрипа. Его еженедельная речь по радио, произносимая в субботу, в два часа дня, была для миллионов людей в полном смысле божественным откровением. Столько сверхъестественной мощи было в этом голосе, звучавшем в эфире, что ради него мужчины опаздывали на гольф, а женщины даже откладывали свою субботнюю партию в бридж.
Отец Чарльз Кофлин из Детройта первый придумал способ, как освободить свои политические проповеди от всякой цензуры путем «покупки своего собственного времени в эфире»; только в двадцатом веке человечество получило возможность покупать время, как оно покупает мыло и бензин. По своему воздействию на всю американскую жизнь и мышление это изобретение почти не уступало идее Генри Форда – сбывать автомобили по дешевой цене миллионам людей, вместо того чтобы продавать их в небольшом количестве в качестве предметов роскоши.
Но епископ Пол Питер Прэнг настолько превосходил пионера этого дела отца Кофлина, насколько «Форд К-8» превосходил модель «А».
Прэнг был более чувствителен, чем Кофлин; он больше шумел, больше распинался, больше поносил своих врагов, открыто называя их по имени, расписывая пикантные подробности; он рассказывал больше забавных анекдотов и гораздо больше трагических историй о банкирах, атеистах и коммунистах, которые раскаялись только на смертном одре. Он больше гнусавил на отечественный лад, был чистокровным представителем Среднего Запада, и предки его были шотландскими протестантами из Новой Англии, в то время как Кофлина богатые фермеры всегда немного подозревали в том, что он католик с приятным ирландским произношением.
Ни один человек в мире не имел такой аудитории, как епископ Прэнг, и не обладал такой несомненной властью. Когда он требовал, чтобы его слушатели через своих членов конгресса голосовали за тот или иной законопроект, потому что ему, Прэнгу, ex cathedra[9], ему одному, без всякой коллегии кардиналов, открылось, за что им надлежит голосовать, – пятьдесят тысяч человек сломя голову бросались к телефону или мчались в машинах по грязи на ближайший телеграф, чтобы от его имени передать правительству свои распоряжения. Таким образом, благодаря магии эфира Прэнг достиг такой власти, по сравнению с которой любая историческая корона должна была казаться жалкой мишурой.
Миллионам членов Лиги он посылал размноженные на мимеографе письма с факсимиле его подписи и обращением, так искусно впечатанным, что каждый радовался, вообразив, что получил привет лично от основателя Лиги.
Дормэс Джессэп, сидя в своей глуши, в горах, никак не мог понять, в чем суть политического евангелия, так громогласно возвещаемого епископом Прэнгом с его Синая, который со своим микрофоном и отпечатанными на машинке откровениями, рассчитанными во времени с точностью до одной секунды, гораздо более поражал и сильнее действовал на воображение, чем настоящий Синай.
В частности, Прэнг ратовал в своих проповедях за национализацию банков, рудников, гидростанций и транспорта; за ограничение доходов, за увеличение заработной платы, усиление профсоюзов, более быстрое распространение потребительских товаров. Но ведь теперь все – от виргинских сенаторов до миннесотских членов рабоче-фермерской партии – пробавлялись этими благородными теориями, и уже не осталось легковерных людей, которые верили бы в осуществление хотя бы одной из них[10].
Существовало мнение, что Прэнг был лишь покорным рупором своей огромной организации, именуемой «Лигой забытых людей». Было широко распространено убеждение, что Лига насчитывает в своих рядах (хоть ни одна фирма с профессиональными бухгалтерами не проверяла еще ее списков) двадцать семь миллионов членов вместе с соответствующим ассортиментом федеральных чиновников, чиновников штатов и городских чиновников и с массой комиссий под пышными названиями, вроде «Национальная комиссия по составлению статистики безработицы и нормальной занятости рабочей силы в соевой промышленности».
Как бы то ни было, епископ Прэнг не в виде смиренного и слабого гласа божия, а всей своей величавой персоной появлялся и выступал с речами перед двадцатитысячными аудиториями, объезжая все крупнейшие города страны и гастролируя в громадных залах для боксерских состязаний, в кинодворцах, на оружейных заводах, на бейсбольных полях и в цирках; по окончании митинга его проворные помощники собирали членские взносы и заявления о принятии в члены «Лиги забытых людей». Когда его хулители робко намекали, что все это очень романтично, забавно и красочно, но не очень-то достойно, епископ Прэнг отвечал: «Учитель охотно говорил и перед любыми простолюдинами, желавшими слушать его»; никто не осмеливался возразить ему на это: «Вы-то ведь не Учитель… пока еще».
При всех блестящих успехах Лиги с ее массовыми митингами ни разу не было случая, чтобы тот или иной догмат Лиги или же тот или иной случай давления, оказанного ею на конгресс и президента для проведения какого-либо закона, исходили от кого-нибудь, кроме самого Прэнга, действующего в едином лице, без всяких комиссий или сподвижников. Все, к чему стремился этот Прэнг, так часто твердивший о смирении и скромности Спасителя, заключалось в том, чтобы сто тридцать миллионов людей были абсолютно послушны ему, своему королю-жрецу, во всем, касавшемся их личной и общественной жизни, их способа добывать себе пропитание и всех их взаимоотношений с им подобными.
– И это, – ворчал Дормэс Джессэп, наслаждаясь благочестивым возмущением своей жены Эммы, – делает Прэнга тираном похуже, чем Калигула… и фашистом похуже, чем Наполеон. Знаешь, я, конечно, не верю всем этим слухам о том, что Прэнг присваивает членские взносы, и деньги от продажи брошюр, и пожертвования для оплаты его выступлений по радио. Мне кажется, что здесь дело гораздо хуже. Я боюсь, что он честный фанатик! Вот почему он и представляется мне как реальная угроза фашизма… Он так чертовски гуманен, так благороден, что большинство людей охотно предоставило бы ему управлять решительно всем, а в стране таких размеров, как наша, эта работка не из легких… Не из легких, моя милая… даже для методистского епископа, получающего так много приношений, что он может себе позволить «покупать время»!
А между тем Уолт Троубридж, вероятный кандидат Республиканской партии на пост президента, страдавший чрезмерной честностью и не желавший обещать чудес, упорно твердил, что мы живем в Соединенных Штатах Америки, а не на усыпанном золотом пути к Утопии.
Ничего утешительного в таком реализме не было, так что всю эту дождливую июньскую неделю, когда отцветали яблони и увядала сирень, Дормэс Джессэп ждал очередной энциклики папы Пола Питера Прэнга.
V
Я слишком хорошо знаю Прессу. Почти все редакторы таятся в своих грязных норах; эти люди не думают о Семье, об интересах Общества, о радости прогулок на свежем воздухе и помышляют лишь о том, как бы всех оболгать, улучшить собственное положение и набить свои бездонные карманы, извергая клевету на государственных деятелей, готовых отдать все для блага Общества и всегда легкоуязвимых, так как они находятся у всех на виду в ослепительном сиянии трона.
«В атаку». Берзелиос УиндрипИюньское утро сияло; последние лепестки отцветающих диких вишен лежали, влажные от росы, на траве, и реполовы весело возились на лужайке. Дормэса, любившего поваляться в постели и подремать украдкой после того, как в восемь часов его будили, что-то заставило быстро вскочить и проделать несколько гимнастических упражнений. Он стоял перед окном своей комнаты и глядел на темные массивы сосен на горных склонах, по ту сторону реки Бьюла, в трех милях от его дома.
Последние пятнадцать лет у Дормэса и Эммы были отдельные спальни; нельзя сказать, чтобы Эмма была этим так уж довольна, но Дормэс уверял, что он ни с кем не может спать в одной комнате, так как ночью он бормочет во сне и любит ворочаться в кровати и взбивать подушки без опасения кого-нибудь обеспокоить.
Была суббота – день прэнговских откровений, но в это ясное утро, после стольких дождливых дней, Дормэсу совсем не хотелось думать о Прэнге; он думал о том, что его сын Филипп неожиданно приехал с женой из Вустера, чтобы провести с ними субботу и воскресенье, и о том, как они всей компанией вместе с Лориндой Пайк и Баком Титусом устроят «настоящий старомодный семейный пикник».
На этом все настаивали, даже светская Сисси, которая в свои восемнадцать лет уделяла очень много времени теннису, гольфу и таинственным, бешеным автомобильным поездкам с Мэлкомом Тэзброу (только что окончившим школу) или с внуком епископального священника Джулиэном Фоком (первокурсником Амхерстского университета).
Дормэс ворчал, что он не может ехать ни на какой пикник; что он обязан как редактор остаться дома и слушать в два часа речь епископа Прэнга по радио; но они только смеялись над ним, ерошили ему волосы и приставали к нему до тех пор, пока он не обещал им поехать (они не знали, что он одолжил у своего друга, местного католического священника Стивена Пирфайкса, портативный радиоприемник и так или иначе услышит Прэнга).
Он был доволен, что с ними будут Лоринда Пайк – он любил эту насмешливую праведницу – и Бак Титус, пожалуй, самый близкий его друг.
Джеймсу Баку Титусу, которому было пятьдесят лет от роду, можно было дать не больше тридцати восьми; стройный, широкоплечий, с тонкой талией, длинными усами и смуглой кожей, Бак был типичным американцем прежних времен в стиле Даниэля Буна. Получив образование в Виллиамсе, он затем десять недель провел в Англии и десять лет – в штате Монтана; эти десять лет ушли на разведение рогатого скота, геолого-разведочную работу и на занятие коневодством. Его отец, довольно богатый железнодорожный подрядчик, оставил ему большую ферму около Вест-Бьюла, и Бак, вернувшись домой, занялся выращиванием яблонь, разведением моргановских жеребцов и чтением Вольтера, Анатоля Франса, Ницше и Достоевского. Во время войны он был простым рядовым, презирал своих офицеров, отказался от офицерского чина и восхищался действиями немцев в Кёльне. Он хорошо играл в поло, а охоту с собаками считал детской забавой. Что касается политики, то он не столько сокрушался о тяжелом положении рабочих, сколько презирал прижимистых эксплуататоров, засевших в своих конторах и зловонных фабриках. В общем, насколько это возможно в Америке, он был похож на английского деревенского сквайра. Бак был холостяком и занимал большой дом, построенный в средневикторианском стиле. Хозяйство у него вела приветливая чета негров; в своем строгом жилище он иногда принимал не совсем строгих дам. Он называл себя «агностиком», а не «атеистом» только потому, что презирал выкрики и завывания присяжных атеистов. Он был циничен, редко улыбался и был неизменно предан всем Джессэпам. Участие Бака в пикнике радовало Дормэса не меньше, чем его внука Дэвида.
«Возможно, что и при фашизме все будет так же спокойно и мы будем по-прежнему распивать чай, да, пожалуй, еще и с медом», – подумал Дормэс, надевая свой щегольской загородный костюм.