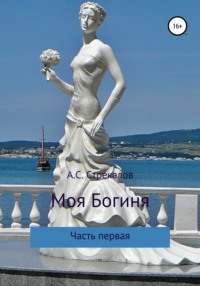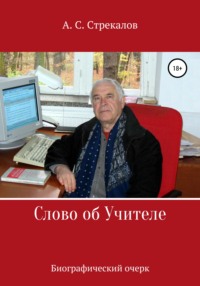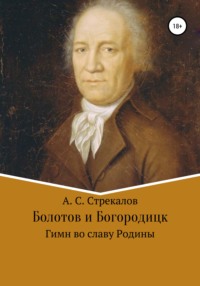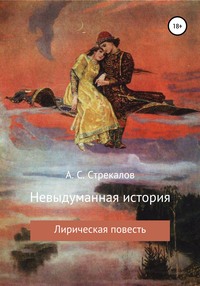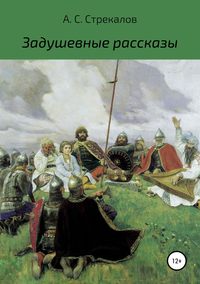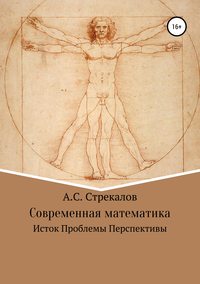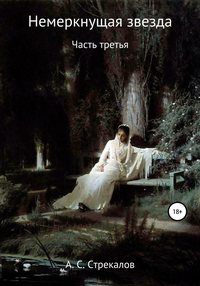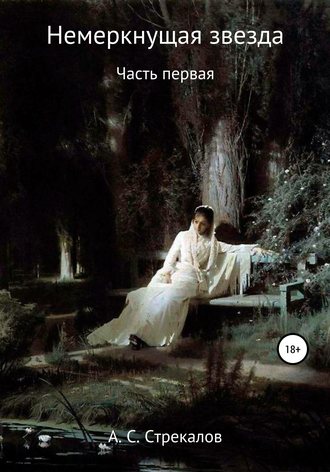
Полная версия
Немеркнущая звезда. Часть первая
Я жив пока могу вернуться к дому, <родителей, и ко> гнезду родному,
где я птенцом отправился в полёт, где воздух пахнет будущим, как прежде,
а прошлое мне снова о надежде – в саду, как птица вещая, поёт…»
Мигель де Унамуно (перевод С. Гончаренко)
1
Его в детстве прозвали заводным – за то, что он часами мог гонять мяч по футбольным и баскетбольным полям, а шайбу – по ледовым площадкам, изумляя всех своей быстротой, реакцией, изворотливостью и выносливостью. Составы игравших команд беспрерывно менялись, менялись численность игроков и игровые места, менялись, наконец, сами игры. Не менялся только герой наш, Вадик Стеблов, стремившийся всегда и везде всех перебегать, всех обыграть, во всём принять активнейшее участие.
Улица с малых лет была его родной стихией, домом вторым, а фактически – первым по количеству проведённого времени, растившим, воспитывавшим и окрылявшим его, его духовно и физически укреплявшим. Он пропадал там с утра и до вечера, бывало – прихватывал ночи, забывая про голод и холод, одежду подходящую и про сон. И всё рвался и нёсся куда-то, изо всех сил стараясь всё на свете увидеть, всё успеть захватить.
«Как он у меня в школе учиться будет? – то и дело мысленно сокрушалась мать, с тревогой наблюдая за своим первенцем. – Он же и минуты не может усидеть на месте!…»
Тревожилась и горевала мать, как потом выяснилось, не напрасно, хотя школа и не стала для её старшего сына бедствием ужасающим или же сущей мукой, препятствием непреодолимым как для других. Два-три обязательных урока в начальных классах не слишком обременяли и напрягали его, не сильно озадачивали. К тому же, первые рассказы учительницы – живые, красочные и доходчивые, примерами и картинками сопровождаемые, – ему, на удивление любознательному и жадному до всего нового пареньку, как раз даже нравились. Он слушал их, раскрывши рот, схватывал всё на лету, быстро запоминал услышанное.
Школа, плюс ко всему, заметно прибавила ему друзей, с которыми пришли и новые увлечения. Сама она на первых порах – с её порядками и людьми, огромным спортзалом и библиотекой, изумительным фруктовым садом за стадионом, в котором такие диковинные выращивались плоды, такие сладкие и сочные яблоки вызревали, – сделалась очередным и самым большим его на тот момент увлечением, которое его больше радовало, чем утомляло. Как могут увлечения утомлять?!
А времени после неё у Вадика оставалось много, о котором не стоило ещё сильно тужить. И, прибежав после уроков домой, наскоро подкрепившись и переодевшись, он со всех ног мчался потом на милую сердцу улицу – догонять там то, что упустил за утро, энергию из себя выпускать, окружающей жизни радоваться…
Первым большим испытанием для него стало домашнее задание, предложенное их классу Инной Алексеевной Малкиной, первой учительницей Вадика – низкорослой красивой дамой средних лет с огромной, не пропорциональной для её роста грудью, любившей тихонь и угодников, богатых и знатных учеников, что неизменно ходили у неё в любимчиках и отличниках. Инна Алексеевна, исходя из опыта или из образовательных директив, полученных в пединституте, не поспешила сразу же загрузить детей: дала им время на привыкание и раскачку. Всю первую неделю она знакомила их со школой – историей её и традициями, её знаменитыми выпускниками, – водила первый “А” класс по этажам и разным профильным кабинетам. Потом показала детишкам спортивный и актовый зал на четвёртом этаже, стадион за школой, богатейший фруктовый сад с теплицей и парниками, и молодыми, обильно плодоносившими яблонями и грушами. И под конец попросила своих притомившихся подопечных нарисовать дома в тетрадках с помощью циркуля пять одинакового размера кружков, долженствующих располагаться на первой странице строго по горизонтали.
Задание было пустяшным – но с тайным и далеко идущим умыслом. Именно так проверяют опытные педагоги новых учеников, составляют мнение о них: о характере каждого и работоспособности, настрое внутреннем и прилежании.
И уже ту первую школьную проверку Вадик тогда не прошёл – полным неумёхой себя выставил и разгильдяем, – из-за чего сразу же опустился в учительских глазах, в категорию середняков справедливо попал, безнадёжных троечников, дал повод Малкиной нелестно о себе все четыре года думать, которых – поводов – потом было не сосчитать.
Прибежав после уроков домой, как всегда раскрасневшийся и возбуждённый, он, помнится, начал дело с того, что расчистил для себя угол за обеденным столом, потому как собственного стола у него долгое время не было. Когда всё было готово и прибрано, он уселся поудобнее на табуретку, достал из портфеля тетрадь и новый, заточенный матерью, карандаш, а также совсем ещё новенький, в чёрной блестящей краске циркуль, в народе прозванный “козьей ножкой”. Это был тогда самый дешёвый и самый примитивный циркуль-универсал, рассчитанный, при небольшой доработке, на все виды карандашей: от самых тоненьких – до самых толстых.
Карандаш Вадика тонковат оказался для металлического хомутка: его необходимо было поджать клещами… Но клещи были у отца, отец же был на работе, с которой возвращался поздно, как правило; бывало – и навеселе. А сидеть и ждать его, сложа руки, до вечера Вадик не захотел – не любил никого ждать и минуты.
«Попробую так», – не долго думая, решил он, засовывая карандаш в держатель, после чего медленно, придерживая большим пальцем шестигранный торец и одновременно загоняя остриё ножки циркуля поглубже в бумагу, стал выводить в тетрадке первый, заданный учительницей круг, усердно сопя и пыхтя при этом.
Незакреплённый карандаш, как хорошо смазанный ползунок ползая по держателю, самоуправно вычертил на лощёном листе некую причудливую фигуру без названия, у которой, помимо страшного вида, ещё и начало не сошлось с концом. Спираль получилась кривая, “пьяная”, а не круг, на которую даже смотреть было больно…
Такой поворот плёвого на первый взгляд дела неприятно поразил Стеблова – парня стремительного, несдержанного.
«Я так с пятью кружками этими до вечера провожусь», – с досадой подумал он и, поморщившись, полез в портфель за ластиком.
Новенький ластик быстро ликвидировал неудавшееся с первого раза творение, и наш торопыга-чертёжник, закусив губу и ещё яростнее, ещё громче сопя, вновь принялся за работу, ещё крепче придерживая пальцем карандаш в держателе, поворачивая уже не циркуль, а саму тетрадь.
Фигура на листе в этот раз по форме напоминала уже точно круг, но под самый конец рука Вадика вдруг ослабла и дрогнула. И две до того дружно шедшие навстречу друг другу линии опять предательски разошлись, не на шутку разозлив занервничавшего первоклашку. Он-то, чудак, думал выполнить первое в жизни задание за один присест, одним махом скинуть его с плеч долой и забыть про него поскорее. И потом получить от учительницы похвалу или даже пятёрку. А выходило всё наоборот – смешно, бестолково и очень медленно. Ни руки не слушались, ни тетрадь, ни циркуль с карандашом гранёным. Вадик нервничал, портил всё, спотыкался на ровном месте; он, шутка сказать, запутался в трех соснах, где не должен был, не имел права путаться…
И вновь энергично заработал ластик в его руках, старательно убирая начерченное; и одновременно превращая лощёный тетрадный лист в бумагу туалетную, промокашку…
Третью, совсем уже нервную попытку карандаш не выдержал – сломался; его тонкий графитовый кончик, затрещав и подскочив на столе, отлетел далеко в сторону, не желая более служить такому горе-чертёжнику.
Тяжёлый надрывный вздох, раздавшийся над столом, унёс остатки короткого детского терпения: его едва-едва хватило после того на новую карандаша заточку. А тут ещё, как на грех, в окно постучал сосед-одногодок, вызывая гулять разнервничавшегося дружка, “ерундой” уже полчаса занимавшегося.
– Сейчас иду, – крикнул ему в форточку вскочивший с места Вадик. – Домашнее задание сделаю только.
Подстёгнутый призывом гулять и солнцем сентябрьским, ласковым, нежно коснувшимся глаз, он закрыл и занавесил окно, и вернулся назад к столу, при этом недовольно морщась. Нервно усевшись за стол, он схватил приготовленный карандаш, ставший после собственноручной заточки каким-то уродливым и неудобным, и уже от руки, без циркуля, быстро нарисовал в тетрадке пять заданных учительницей кружков, которые попытался расположить в заданную ей же линейку. Кругами, правда, те его ручные творения сложно было назвать. Да и заметно плясали они на листе вверх и вниз словно пьяные. Зато у каждой фигуры из пяти концы сходились с концами.
«Да ладно! Сойдёт и так, – с облегчением подумал он, пулей выскакивая из-за стола, на бегу убирая в портфель циркуль, карандаш и тетрадку. – Кому нужны эти кружки дурацкие?!»
И не прошло и пяти минут, необходимых на переодевание, как он уже самозабвенно гонял во дворе с соседскими ребятишками мяч, с удовольствием и каким-то внутренним наслаждением даже погружаясь в привычную для него среду, стихию желанную, милую, – стихию соперничества и борьбы, и бескомпромиссного спортивного состязания…
– Как у тебя в школе дела, Вадик? – спросила его вечером мать, с работы только-только пришедшая и словно что-то неладное почувствовавшая тогда.
– Нормально, – ответил смотревший телевизор сын.
– Домашних заданий не задают ещё?
–…Н-нет.
–…Странно! – недоумённо пожала плечами Антонина Николаевна (так звали маму Вадика), намереваясь идти ужин готовить. – Уже неделю целую проучились, а вам ничего не задают.
– Зададут-зададут, не волнуйся, мамуль: Инна Алексеевна сегодня пообещала, – скороговоркой ответил отвернувшийся от неё первенец, с головой ушедший в футбол и не желавший продолжать неприятный для него разговор, рассказывать всю правду матушке. И уж тем более, не желавший отрываться от телевизора, на ночь глядя, и садиться опять за стол и тетрадки, кружки начинать переделывать, мучиться, глаза ломать. На кой ляд ему это было нужно?! Он очень устал, избегался за день – и хотел отдохнуть. А перетруждать себя дурацким заданьем не имел намерений…
2
То испытательное домашнее поручение, почти никем, кроме самой Малкиной, не замеченное, незримо, но чётко разделило первый класс “А”, в котором довелось учиться маленькому Стеблову, на две неравные части.
В первую, меньшую по числу, попали дети, всю вторую половину того памятного сентябрьского дня провозившиеся над заданными учительницей кругами, которые, в конце концов, получились у них на загляденье – ровные и красивые. Для таких ребятишек предстоящие десять школьных лет обучения – со всеми их ежедневными заданиями и контрольными, окружностями, треугольниками и пирамидами, как и подлежащими и сказуемыми, падежами, спряжениями и склонениями – должны были стать и стали главным на тот период жизни делом, полностью подчинившим оставшиеся вне школьных стен дела, тем более – развлечения.
В оставшейся, большей части, естественным образом оказались ученики, отнёсшиеся к первому домашнему заданию либо спустя рукава, либо вообще позабывшие его выполнить. Для них – непоседливых и неорганизованных, шалопутных, беспечных и озорных, или просто очень и очень ленивых – школа, как таковая, не только не стала единственным светом в их необычайно широком жизненном окне, но даже и не самым ярким.
И именно к последней группе, к величайшей скорби матери, доходившей у той до отчаяния, а часто и до горьких, безудержных и безутешных слёз, целых семь долгих лет вполне заслуженно принадлежал и Стеблов Вадик, никак не желавший менять свою вольную и бесшабашную внешкольную жизнь на сомнительную, по его тогдашним понятиям, честь быть в числе первых учеников класса.
Он так и учился потом, как выполнял то первое на дом задание, – нервно, стремительно, неровно очень: лишь бы концы у него сходились с концами и хоть какой-то был результат. Оттого и не замечал совсем набегавших и весело проживавшихся лет, как к тетрадкам старым, использованным, к ним относился… А года набегали быстро и, не задерживаясь, уносились прочь, оставляя по себе лишь слабые воспоминания…
Первые четыре года в школе показались Вадику одним днём, одним мгновением даже. Инна Алексеевна Малкина, научив детей читать и писать, любить школу, Родину и будущих учителей, свою почётную задачу-миссию полностью выполнила и навсегда распрощалась с ними. Были слёзы обильные и цветы, заверения с обеих сторон в вечной любви и памяти. И было прощальное, с тортами и чаем, застолье, венчавшее трогательное расставание.
И всё. Беззаботное детство закончилось, превратилось в сон – сладкий, как прощальный торт, быстротечно-прекрасный…
Пятый класс принёс с собой большое количество новых предметов, не ведомых бывшим первачкам. На смену простенькой арифметике пришли почтенные алгебра с геометрией, замелькали фамилии Фалеса, Пифагора, Евклида, от мудрёных аксиом и теорем которых у некоторых учеников 5 “А” стала регулярно болеть и “раскалываться” голова и “шарики заезжать за ролики”. Букварь и Родную речь заменили величественный и могучий Русский язык и не менее величественная Русская литература. Появились история, ботаника, природоведение, иностранные языки, музыкальное, художественное, трудовое и физическое воспитания.
Вместе с новыми, диковинными дисциплинами – и это было куда более важным и значимым для Стеблова и его повзрослевших товарищей-одноклассников событием – пришли и новые преподаватели, каждый из которых отвечал уже только за свой предмет, только по нему одному учеников проверял и оценивал. Все они были разные по возрасту, характеру и темпераменту, воспитанию, образованию, воззрениям на жизнь, разной же национальности, – что было немаловажно, как потом выяснилось. И все так или иначе гнули свою линию, строили класс под себя, под свои требования и программы.
Это было и хорошо и плохо одновременно, такая палитра педагогическая и такой разнобой. Хорошо потому, что было крайне занимательно и интересно к новому человеку приноровиться, изучить и понять его, такого важного и своевольного, ума-разума от него набраться, симпатий, похвалы и любви, которые никогда не бывают лишними. А главное – оценку заслуженную получить, уже не зависящую от других предметов и педагогов, а только лишь от способностей, исключительно от них… Плохо же потому, что невозможно стало бездарям и нетягам разом под всех учителей подстроиться и обольстить, подкупить напускным усердием, кротостью. Тяжеловато пришлось в пятом классе любимцам первой преподавательницы – тихоням, угодникам и лизунчикам, да и тем же блатным, – кто четыре прошедшие года выезжал исключительно на её к ним симпатиях.
В целом же, тяжело становилось всем. Учебный процесс усложнялся день ото дня, предъявлял ученикам всё новые и новые требования. И не все выдерживали такой напор, не все за ним поспевали.
Инна Алексеевна для оценки своих питомцев использовала всего два критерия – прилежание и социальный статус семьи. Другими критериями она пользоваться не могла, даже если бы и захотела этого: таблица умножения и Букварь исключали для неё такую возможность.
Теперь же всё поменялось кардинальным образом: усложнилось и запуталось для одних, для других же стало честней, справедливей, проще. Прилежание, кошелёк и статус отца – вещи важные и безусловно необходимые в любом деле: без них – никуда. Но с приходом алгебры и геометрии, истории и литературы, чуть позже – физики, химии, биологии, их одних уже становилось мало: уже необходимо требовались память объёмная, цепкая, извилистые и породистые мозги, дотошные и проворные, умение думать, задачи решать, быстро и качественно головой работать.
И выяснялось – к стыду и удивлению многих, неприятному надо сказать, – что как раз это-то и не просто, не все это могут добротно и красиво делать. Из числа тех, главным образом, кто был причислен Малкиной к “лику святых”, кто ходил у неё в обожаемых. И, наоборот, играючи и с лёгкостью невероятной, на зависть всем, как орешки щёлкают задачки алгебраические и геометрические те скромные до того пареньки, кто у первой учительницы были мышками серыми, нолём, кто числился у той в шалопаях…
Жизнь класса менялась, словом, менялась прямо-таки на глазах, доставляя такой переменой скорой радость и гордость одним, другим же – печаль и муку. Уже к концу первого полугодия в 5 “А” образовались три не пересекающиеся между собой группы: отличники круглые, середняки и неуспевающие по всем предметам дети – так называемое “болото”. Разделение это оформилось и закрепилось вначале в головах учителей, затем – в головах воспитанников и их дневниковых оценках, и сохранилось неизменным, в целом, за очень редкими исключениями, все последующие шесть школьных лет – вплоть до звонка последнего, прощального.
Группу отличников составили те, кто своё прилежание и трудолюбие природное весомо подкрепили умением думать, запоминать, делать правильные из прочитанного и заученного на уроках и дома выводы. Таких в классе Вадика оказалось совсем немного – куда меньше, во всяком случае, чем было их до того у Малкиной. Все они быстро сделались заметными в школе людьми: их фотографии поочерёдно красовались на школьной доске почёта. В эту группу, кстати сказать, поначалу вошёл и Вовка Лапин, давнишний Вадика друг, о котором рассказ впереди.
Самую большую по численности группу, группу середняков, основу любого класса, составили либо ученики прилежные, но недалёкие по природе своей, либо способные к обучению дети, у которых самодисциплина отсутствовала или была смехотворно-маленькой. К этой второй группе по праву принадлежал Серёжка Макаревич, ещё один дружок Вадика, о котором, опять-таки, мы поговорим дальше.
Ну а “болото” – оно “болото” и есть. Там мрак, невежество, беспробудная духовная спячка – и могучая власть инстинктов во всем: хватательных и жевательных, утробно-половых. Про таких “крепышей-плохишей” не то что писать, – говорить лишний раз не хочется…
Про самого же Стеблова скажем, что с пятого по седьмой класс включительно и по оценкам своим, и по внутреннему настрою, отношению к делу принадлежал он к крепким середнякам – и ничуть не тяготился этим. Не было у него на тот момент ни прилежания соответствующего, ни особых к чему-либо склонностей или страстей, так что было удивительно даже, как он ещё четвёрки и пятёрки в дневник тогда получал и некоторым учителям нравился.
Память спасала его, удерживала на плаву, не давала опуститься до троек, – природная, Богом данная память, первые признаки которой обнаружились у него достаточно рано, когда он только-только выучился говорить… и хулиганить начал вовсю, игрушки разбрасывать по квартире, со всеми подряд драться. Сидя как-то осенним вечером с матерью на диване и прослушав в её прочтении поэму Некрасова «Генерал Топтыгин», он, трёхгодовалый тогда карапуз, толстенький, живой, плотно сбитый, с большой несоразмерной туловищу головой, тут же и повторил понравившуюся поэму слово в слово, сбившись по ходу рассказа всего пару-тройку раз.
Такой поворот событий поразил тогда мать, потряс даже: не ожидала она совсем, от родов вторых отдыхавшая, такой от своего первенца прыти.
– Молодец, Вадик! молодец! – только и сказала она, с восторгом на сына глядя.
И потом вдруг, в порыве душевной радости, обхватила его, крепко прижала к груди и долго держала так, счастливая, умилённо любуясь им и восхищаясь одновременно.
В тот момент знаменательный, заревой, который оба они на протяжение жизни до мельчайших деталей помнили и с удовольствием пересказывали друг другу, оставшись один на один, в колотящемся материнском сердце впервые зародилась надежда – робкая, крохотная такая, которую мать скрывала потом ото всех, от супруга законного даже, но которую упорно не один год в мыслях своих лелеяла! – что сынуля её родненький, её несравненный Вадик в будущем не подведёт её ни за что, перед людьми в дурном свете не выставит. Наоборот, поднимется на ноги с Божьей помощью, выучится, станет красавцем-парнем, а может даже учёным – умным, образованным, волевым, всё на свете знающим и умеющим. И этим лучше всяких гостинцев под старость одарит её и воодушевит, спокойно умереть поможет, за что она ему будет век благодарна…
А память у сына и правда была изумительной! – это отмечали потом все близко знавшие его люди. Она выручала его всегда и везде, в том числе – и в школе… Ведь он не учился совсем до восьмого класса, или – почти не учился: всё, что на уроках запомнит, решит и поймёт – на том и выезжал; и умудрялся получать в дневник приличные отметки.
Страсти же к наукам и кабинетному творчеству, знаниям твёрдым, глубоким достаточно долго не было у него – ни к каким! И тут уж не помогали ни чьи напутствия и увещевания – ни родителей, ни родственников, ни учителей. Потому что страсть к чему- или к кому-либо, как, впрочем, и вышеупомянутая память, как и любовь, – это дело сугубо Божие…
Для Антонины Николаевны Стебловой, всю жизнь боготворившей школу, равно как и всякое образование вообще, такое наплевательское, безалаберно-равнодушное отношение старшего сына к учёбе и срединное его положение в классе стали настоящей мукой, пыткой душевной, плохо переносимой, если трагедией не сказать. Не такого рвения от Вадика она втайне всегда ждала, не на то его с малых лет настраивала. Да и без запинки пересказанный «Генерал Топтыгин» в младенческом возрасте совсем не такое ей обещал, не такие плачевные рисовал горизонты…
– Ты почему не хочешь учиться, сынок, ответь?! Почему в школу ходишь как на работу постылую, неинтересную?! И почему до сих пор не можешь увлечься ничем, с будущим как-то определиться?! – раз за разом дома терзала она его и себя расспросами пренеприятными, едва-едва сдерживая слёзы в глазах после очередного родительского собрания, когда ей там про равнодушие её первенца выговаривали школьные наставники-учителя и в один голос просили помочь им сына её бесстрастного как-то к знаниям приобщить, к серьёзной на уроках работе, по-матерински повлиять на него, на его безответственное поведение. – И в начальных классах, помнится, учился кое-как – без старания и прилежания: Инна Алексеевна всё на тебя жаловалась. И теперь, подрос и возмужал когда и когда пора бы уж, кажется, и за ум браться, ты всё равно учиться не хочешь! Почему, скажи?! Растолкуй пожалуйста!
– Да почему не хочу-то? – хочу, – досадливо отвечал сын, предчувствуя очередной скандал. – Учусь как все, как весь наш класс учится.
– Как же это ты так интересно учишься, и чему, позволь тебя спросить, если учителя в один голос обратное мне говорят: что ты совершенно не стараешься и не учишься по их предметам?!
– Кто говорит? – болезненно морщился Вадик.
– Да все поголовно! Жалуются, что ты всё делаешь кое-как, без огонька: лишь бы, мол, побыстрее отделаться! с плеч побыстрее заданное спихнуть! – а там, говорят, ему хоть трава не расти, хоть прахом пусть всё идёт и пылью густой покрывается! И с русским языком так, литературой, историей! И с немецким языком, Галина Матвеевна сегодня жаловалась, такая же точно картина!
– Немецкий мне учить не обязательно: я с немцами ни дружить, ни общаться не собираюсь. Они – фашисты, гитлеровцы, наши враги. Были врагами, врагами и будут.
– А русский почему не учишь? – оторопело вопрошала мать, понижая тон, удивлённая ответом сына. – Это же твой родной язык. А литературу?
– Я учу, – упрямо повторял Вадик, опустив низко голову.
– Как же ты учишь, объясни мне, дуре, если у тебя в дневнике одни сплошные четвёрки по этим предметам? А то и тройки проскальзывают. Кто учит – тот отличник круглый с первого класса, как ваша Чаплыгина Оля или Лапин Володька.
– Они все зубрилы и подхалимы, отличники твои, – не поднимая головы, недовольно отвечал возбуждённой матери сын. – Их за это никто в классе не любит.
– Ну и что! – негодованием взрывалась мать. – Хороших и работящих людей никто не любит!… и нигде! Запомни это, сынуля!… А насчёт “зубрил” я тебе так скажу, что и зубрилкой нужно быть: многие предметы без этого просто не выучишь!… А ты, дружочек мой дорогой, своё разгильдяйство элементарное и нежелание учиться с первых дней, я заметила, выдаёшь за какой-то там якобы героизм! за грошовое свободолюбие! Вот какой, дескать, я отчаянный малый! – мне всё до лампы! я никого не признаю и не боюсь! И плевать я, дескать, хотел на учителей и на школу!… Так же тоже нельзя, сынок! – пойми. Потому что не правильно это! И не по-людски, и не по-советски как говорится!
– Вадик! дорогой! послушай меня, – переведя дух и взяв себя в руки, уже спокойнее продолжала беседу мать, перед сыном вся в струнку вытянувшись и даже и сжатые руки шатром к груди приложив, будто Самого Господа Бога призывая в союзники. – У тебя сейчас столько свободного времени на счету, которого в таком количестве у тебя потом никогда уже больше не будет! никогда! – поверь! О таком даре Божием можно только мечтать! – всякий умный и талантливый человек об этом всю жизнь мечтает!… Это время можно потратить с пользой: что-то узнать, прочитать, выучить, понять и запомнить. Чтобы когда-нибудь в будущем добытое знание применить, чтобы элементарно стать интересным образованным человеком. А можно, наоборот, пропить и прогулять, пустить драгоценное школьное время по ветру. И остаться в результате ни с чем – пустышкой дрянной, ничтожеством, никчёмным глупеньким человечком, которого будут потом все обманывать, эксплуатировать, унижать, ноги о которого с презрением вытирать будут… Неужели же ты, сын мой старший, любимый, хочешь для себя такой незавидной участи: прожить жизнь свою кругленьким дурачком?! уродцем слабым, безвольным?! Хочешь?! – ответь!