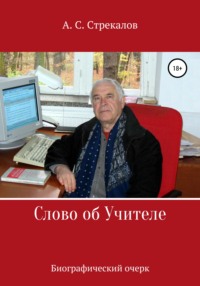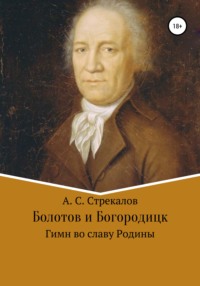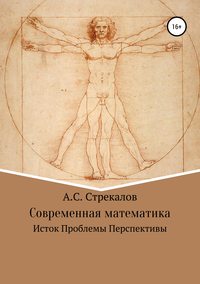Полная версия
Немеркнущая звезда. Часть первая
Однако же любопытство великое и озорные товарищи сбоку раскиснуть и прервать игру не давали – локтями упорно толкали вперёд, своими подколками и советами раззадоривали. И он, собравшись с духом и силами, нервную дрожь кое-как уняв, опять тогда поднял голову и опять, столкнувшись с прямым, настырным взглядом соперницы, не выдержал – опустил глаза… У него перехвалило дыхание от волнения, сердце сойкой встревоженной забилось, затрепетало в груди, наружу норовя выпорхнуть. Ощущение, испытываемое им в тот момент, было так ново и так неожиданно остро, что потребовались силы, много сил, чтобы справиться с ним, пережить, переварить его в своём ошалело-забившемся и защемившем сердце…
Повертевшись на сиденье нервно, с друзьями краями губ пошептавшись, как и он своими соперницами по игре до крайности взбаламученными и возбуждёнными, растревоженный и взволнованный Вадик, воздуху в грудь набрав, в третий раз после этого робко взглянул вперёд и в третий раз столкнулся с направленным на него взглядом – дерзким по-прежнему и вызывающим, лукавым, огненным, волевым. Дерзость эта бесцеремонная, граничившая с хулиганством, так поразила Стеблова, по самолюбию крепко ударила, – что и он в ответ, взбунтовавшийся и ощетинившийся, вдруг неожиданно осмелел. Весь сжался, нахохлился как петух – и не отвёл глаз: «что ж я, слабее тебя что ли, подруга?» – игриво подумал. После чего мужественно принял брошенный ему с противоположной стороны вызов, истуканом в кресле застыл, не мигая уставившись на соперницу.
Это было реакцией на провокацию поначалу, такое его вызывающее поведение, которого он и сам не ожидал от себя, которое было в новинку. Но потом он увлёкся игрой, да ещё как увлёкся!
Борясь со страхами детскими и стыдом, краснея как маков цвет и, одновременно, мужая, раззадоренный дерзкой девчонкой Вадик, с головой окунувшийся в её темноглазый омут, впервые в жизни почувствовал внутри себя неизъяснимую и невыразимую никакими словами истому, острее, желаннее и слаще которой он ничего не испытывал прежде, про которую не подозревал! Та истома утробная пробирала его до костей, доходила до коленок, до пяток даже, волосы теребила и поднимала на голове, сводила судорогой низ живота, сердце холодом своим останавливала! Вот что творили с ним колдовские девичьи очи, в открытую над ним издевавшиеся и посмеивавшиеся, с полчаса уже провоцировавшие его, словно бы проверявшие его на прочность: выдержит он – не выдержит? мужик – не мужик? стоящий или же так, слизняк мягкотелый, мокрица?
По-хорошему, послать бы ему тогда эту игру и “проверку” к чертям и отвернуться налево к сцене. Спокойно завуча своего посидеть и послушать, перед ними, свиньями неблагодарными, уже около часа “бисер” со сцены метавшую. После чего подняться, когда Старыкина разрешит, и спокойно уйти домой безо всяких проблем и последствий. Всё это было бы куда полезнее и здоровее ему, девчонок всегда сторонившемуся и не дававшему им со своей стороны даже и слабых намёков, которые можно было бы неверно истолковать и о любовных глупостях начать думать… Но делать он этого не захотел почему-то, завороженно в кресле застывший, не захотел отворачиваться и уступать, прерывать игру развлекательную, идиотскую. Наоборот – хотел уже, чтобы она длилась и длилась! Потому что нравилась ему игра при всей её примитивной пошлости! сильно нравилась!
И на соперницу свою он готов уже был, не переставая, смотреть, хотел, чтобы не отворачивалась, не отвлекалась она, чтобы пореже подружки бедовые разговорами её отвлекали! Она такая красивая в тот день была – после долгого летнего отдыха, – ухоженная, выспавшаяся, загорелая! Она буквально светилась вся здоровьем, жизнью и счастьем!… А глазищи какие у неё были в момент игры! – огромные, в пол-лица, как вода родниковая чистые, уверенность в себе излучавшие, жажду жизни, любви! Он проваливался в них как в бездну, был в точности на юного парашютиста похож, что совершал свой первый в жизни – но только душевный – прыжок!
Ему и страшно до жути было, и сладко одновременно. И коленки от страха дрожали и дёргались, в узел скручивало живот. И дух захватывало словно тисками железными, ледяною коркой покрывалась спина! Но вместе с этим страхом и холодом внутри ещё и такой пьянящий восторг присутствовал, который перекрывал-пересиливал всё: все страхи, бурления и опасения, – который один был сильнее их всех! один всех тех страхов стоил!
Был и ещё один крайне любопытный момент, не укрывшийся от цепкого взгляда Стеблова. Пожирая глазами сидевшую напротив девчонку, он через какое-то время подметил, как её искрящиеся тёмные глазки, беспечные и игривые поначалу, даже и дерзкие где-то, по-барски самонадеянные, – глазки эти хитрющие под его пристальным взглядом перестали надменничать и веселиться, и, как по команде чьей-то, неожиданно сузились и напряглись, вроде как затуманились даже. И из надменно-лукавых и гордых, как крепость древняя неприступных, быстро превратились в задумчиво-мягкие, нежные, не по-детски серьёзные и внимательные. Он видел, как менялась его соперница по игре и под конец уже и про подружек своих позабыла, и уже не общалась с ними совсем, как прежде не шушукалась и не переговаривалась, игру стихийную не обсуждала. В кресле неподвижно застывшая, она также всю себя посвятила ему. Она, как и он, ловила каждую секунду их абсолютно случайной встречи…
Прозвеневший звонок, однако, и последнее слово завуча прервали их первое безгласное знакомство, но не прервали их отношений вообще, как это случилось с Вовкой и Серёжкой и их визави, всего один-единственный раз только и решившими поиграть-побаловаться с парнями, озорно потешиться с ними от скуки, подразнить-раззадорить их. Заключаться же отношения стали в том, что Стеблов с друзьями после того памятного собрания регулярно начали замечать возле своего класса ту роскошную брюнетку из седьмого “В”, что сидела напротив Вадика и всё собрание отчаянно пыталась сломить его, околдовать, вскружить голову. Как куклу безвольную, гуттаперчевую подхватив под ручку одну свою пухленькую одноклассницу, некрасивую, но очень добрую и покладистую по виду, которую Стеблов тоже знал, первая красавица школы и первая её невеста по нескольку раз в день на переменах стала пробегать мимо них, всякий раз при этом бросая на Вадика пламенно-пылкие взгляды, так хорошо запомнившиеся ему… и полюбившиеся… Эти взгляды частенько стали обжигать Стеблова и после занятий, когда он, возвращаясь домой из школы в компании своих дружков, на другой стороне улицы вдруг замечал эту девочку, неотступно шедшую следом по соседнему тротуару и не спускавшую с него цепких внимательных глаз, жар которых он всю дорогу на себе чувствовал. Дойдя до очередного перекрёстка, где ей нужно было сворачивать и идти домой, она останавливалась на его середине и долго стояла там, недвижимая, неотступно за ним наблюдая, – до тех пор, пока он не исчезал из вида, в проулок свой не сворачивал. И только лишь после этого она трогалась с места, мечтательно по сторонам посматривая, улыбаясь краями губ и грустя…
Такое поведение, естественно, не скрылось от глаз и незамеченным не осталось ни для героя нашего, ни для школьных приятелей его, Лапина и Макаревича, всегда толкавших Вадика в бок, когда та девочка вдруг появлялась рядом. Очень быстро выяснились имя и фамилия воздыхательницы – Лариса Чарская. Выяснилось также, что она – дочь прокурора города, единственная его дочь; живёт с родителями в престижном четырёхэтажном доме на улице Ленина, половина окон и балконов которого выходили на главную городскую площадь с памятником вождю посередине.
– Смотри, Вадик, засудит тебя её папаша в случае чего, упрячет в Сибирь или даже
дальше, – стали шутить после этого Серёжка с Вовкой всякий раз, когда замечали на улице идущую за ними следом Ларису.
– А я что? – краснея, смущённо отвечал на это Стеблов. – Я ничего…
Но он лукавил, говоря «ничего», – потому что то собрание первое в начале года и стихийно устроенные переглядки и для него не прошли бесследно: что-то такое особенное зародилось и в его душе. Появление Чарской возле их класса – всегда ухоженной, яркой, красивой, пристально на него смотрящей, – волновало и вдохновляло его, вносило в его повседневную жизнь, довольно-таки серую и однообразную в основном, скучную и монотонную, некий элемент праздника, толику счастья. Да и – что там греха таить! – немало тешило его детское самолюбие, гордостью отзывалось внутри. Не без этого!
Он втайне ото всех стал уже ждать Ларису – в коридоре ли на переменах, в столовой, раздевалке или на улице, – искать глазами её. И огорчался, когда в какой-нибудь день не видел эту девочку подле себя, считая тот день потерянным… Огорчался – но сам ничего не предпринимал для увеличения количества подобных встреч, словно бы уже тогда понимая, что праздник тем и отличен от буден, что происходит не каждый день и служит человеку наградой за что-то…
2
Так вот и потекла с тех пор его школьная жизнь – простая, тихая, неприметная, – которую нежданно-негаданно вдруг стали скрашивать изо дня в день, будоражить и осветлять как лучики света «тёмное царство» регулярные появления Чарской. Два года целых она ходила к нему и за ним, незаметно приучая его к своему присутствию. Два долгих года, как солнце весеннее, подпитывали и подбадривали его её любящие, предельно-нежные взгляды. Несказанно преобразившись сама, она и его за это время преобразила, невольно заставила подтянуться и детство сбросить, посерьёзнеть, повзрослеть, поумнеть. Приучив Стеблова скучать без неё, она, скучая вдвое, а то и втрое больше, искала любую возможность, любой момент быть поближе к нему, – она уже жалела даже (так она говорила подругам), что училась с Вадиком розно.
Сам же Вадик лишь поражался упорству, с каким Лариса преследовала его в седьмом и восьмом классах; и, одновременно, гордился ей, её бескорыстными к нему чувствами. Он хорошо видел подвиги её во имя этих чувств – и на всю жизнь запомнил её тогдашние ради него жертвы… И глаза её он помнил потом всегда, страстью и нежностью полные; особенно помнил те дни, когда имел счастье купаться в них, словно в бездонных озёрах, долго-долго.
Не часто это ему удавалось, не часто благоволила к нему Судьба. Но даже когда и выпадал момент, он, дурачок простодушный, от такого счастья дарованного и дармового как зайчик трусливый бежал, “долго-долго” как раз и не мог его выносить: довольно быстро им наедался и пресыщался. Потому что слаб был ещё и неразвит, зелен, неопытен, непорочен; потому что психологически, да и физиологически тоже, созревал по отношению к противоположному полу катастрофически медленно.
Потом он, конечно же, повзрослев, силы мужской набравшись, страшно сожалел об этом и тосковал, кусал локти в особо-тягостные минуты. Но воротить назад, воскресить счастье детское и блаженство ни с чем несравнимое было уже нельзя: ушедшие, они назад не возвращаются…
И оставалось ему, горемычному, “Лазаря петь”. Понимай: восстанавливать в памяти наиболее яркие моменты их неслучайных с Ларисою встреч, по многу раз прокручивать их в голове и наслаждаться хоть так, в суррогатно-призрачном виде, школьным радужным прошлым. Как и тем морем нежности, первых сердечных восторгов, любви, что безвозвратно исчезли с ним, которыми бы он мог тогда – да не захотел воспользоваться…
Седьмой класс. Середина зимы. Двухнедельные каникулы зимние.
На каникулах их седьмой “А” в полном составе возили на школьном автобусе в областной центр – на новогоднее праздничное представление, что в здании областного цирка для детишек традиционно устраивалось. Дорога была дальняя, снежная, муторная: полтора часа в один конец. Устанешь даже и сидеть на попе.
Стеблов, Макаревич и Лапин туда и обратно сидели на последнем в салоне ряду, спиною к водителю и учительнице, что сопровождала их, лицом же – к задней площадке автобуса; шутили, смеялись, рассказывали анекдоты и небылицы всякие, или просто смотрели по сторонам, измучившись под конец страшно.
И можно только представить, как измучилась Чарская, столбом простоявшая все три часа на трясшейся и дребезжавшей площадке и не спускавшая со Стеблова глаз, ни разу тогда не присевшая.
Как она, учившаяся в параллельном классе, попала к ним? от кого выведала про ту поездку и с кем сумела договориться? – Бог весть! Загадка непостижимая и необъяснимая! Но только сама поехала, да ещё и потащила с собой свою подругу безвольную, беспрекословную, Чудинову Людмилу, которую под ручку водила везде – и в школе четвёртой, и дома…
* * *
И здесь будет самое время и место нам с Вами взять паузу, дорогой Читатель, и про Люду Чудинову парочку слов сказать, скромную героиню повести, с которой Чарская дружила с детства, с четырёх с половиной лет, а точнее – с того момента, как родители их получили квартиры в одном доме на площади. Только Чудиновы, в отличие от Чарских, въехали в новый дом вне очереди, как многодетная семья; Людмила была в семье пятой, самой младшей, дочерью. Была она ровесницей Ларисы с разницей в возрасте в пару месяцев, и неудивительно поэтому, что девочки сдружились уже в первый на новом месте день, когда встретились во дворе в песочнице.
Чудиновы получили квартиру в соседнем подъезде на первом этаже, были простые работящие люди, богатым и чопорным Чарским не чета, к тому же – люди пьющие. Поэтому отец Ларисы, уже тогда ответственный работник прокуратуры, не очень-то и одобрял любую с ними связь, недовольно бурчал всякий раз при упоминании соседской фамилии. Но дочери его, наоборот, тихая Людмила нравилась – за то уже, что простой и скромной, неизбалованной и некапризной была, и сразу же стала смотреть на воображалу Чарскую снизу вверх, ловить, широко раскрывши рот, каждый её жест и слово, любое её поручение выполнять, просьбу, приказ, капризу. Лариса поработила скромную Люду в два счёта, взяла над ней полную власть, почти сразу же, с первых минут сделавшись духовным лидером её, безоговорочным вождём-предводителем. Она таскала подругу-ровесницу по городу, магазинам и парку, водила к себе домой постоянно, где с удовольствием хвасталась перед ней вещами модными, дорогими, игрушками-побрякушками, книгами; а заодно и кормила вечно голодную Люду дорогими конфетами и пирогами, поила сладкой газированной водой.
Мать Ларисы, Вероника Натановна Чарская, дружбе их не препятствовала, потому что и ей уважительная и скромная Люда пришлась по душе, чем-то полюбилась даже. Да и не было в их новом доме других девочек-ровесниц, с кем Лариса могла бы общаться, дружить… Потому-то Вероника Натановна и не мешала детям, потому и принимала у себя с удовольствием маленькую соседку. Она помогала бедно жившей Людмиле всем чем могла, отдавала ей игрушки и вещи Ларочки (в семье Чарских так называли дочь), в которые та не хотела уже играть, которые носить не желала. Она даже продуктами и деньгами иногда помогала Чудиновым, когда глава их семейства, каменщик местного СМУ, срывался и уходил в запой, когда семейство его буквально нищенствовало.
Неудивительно, что принимавшие помощь соседи молились на Чарских и разрешали их дочери делать буквально всё, когда та приходила в гости. А сама Людмила, гордившаяся дружбой такой, готова была из кожи вылезти, лишь бы только красавице Ларочке угодить, сделать ей, капризнице и своевольнице, что-либо приятное…
* * *
Вот и в ту поездку в далёкий областной центр с чужим, как ни крути, классом Людмила отправилась по настоятельному уговору Ларисы, хотя и не была в восторге от этого. И по её же требованию простояла все три утомительных дорожных часа на задней трясущейся площадке – под насмешливо-удивлёнными взглядами всего седьмого “А”, не понимавшего тогда совсем, отчего это две чудачки залётные всю дорогу, как привязанные, сзади стоят, когда в автобусе столько свободного места… Но Ларисе необходимо было постоянно видеть Вадика, усевшегося с друзьями сзади, – ради этого она, собственно, и поехала. А чтобы желание это не выглядело так откровенно с её стороны, она и поставила рядом Людмилу – в качестве прикрытия и сопровождения.
Чарская сильно устала под конец: это было видно по её измождённо-осунувшемуся лицу, почерневшим глазам и гримасам болезненным, что она всю дорогу пыталась скрыть. Впереди же, возле кабины водительской, были пустые места, на которые можно б было присесть отдохнуть, вытянуть отёкшие ноги… Но она не ушла с площадки, Стеблова не бросила. И, ни разу сама не присев, не позволила присесть и подруге, также к концу поездки еле на ногах державшейся.
Зато всю дорогу туда и обратно она обжигала Вадика пламенным взглядом своих чарующих глаз и, как казалось ему, просила, умоляла о встрече: в цирке ли на торжествах, в родном ли городе после поездки. О том же самом Стеблову нашёптывали и сидевшие рядом друзья, всё это хорошо видевшие и понимавшие.
Но Стеблов тогда так и не подошёл к Ларисе, не осчастливил, истомившуюся, её – потому что знакомство и последующая дружба с Чарской никаким боком не вписывались в его тогдашнюю вольную жизнь, его грандиозные детские планы. Смотреть на неё, издали восхищаться ей, гордиться её пламенным чувством – это, как говорится, было дело одно, приятное и необременительное; дружить же, любить и заботиться, проводить подле неё всё свободное время – дело, извините, совсем другое, которое ветрогону-Вадику категорически не нравилось и энтузиазма не вызывало…
Седьмой класс. Окончание его. Июнь-месяц.
Будущих восьмиклассников четвёртой школы всем составом командировали на сельхозработы в одну из близлежащих деревень – помогать подшефному колхозу. Поехала Чарская со своим седьмым “В”, поехал Стеблов с одноклассниками.
Их трудовой лагерь расположился в лесу – на большой светлой поляне неподалёку от колхозного поля, сахарной свеклой засеянного, которую школьникам предстояло полоть. Жили дети в палатках, установленных в центре поляны двумя взаимно-перпендикулярными рядами, что сверху напоминали заглавную букву “Г”; между рядами для удобства хождения устроители лагеря оставили небольшой проход.
И опять Судьбе было угодно соединить Стеблова и Чарскую, поселить в соседние – угловые – палатки их. Причём так ловко, с тайным умыслом это сделать, чтобы входной торец палатки Чарской упирался в боковое окошко палатки Стеблова…
Две недели длились сельхозработы, две недели существовал лагерь. И все две недели Лариса, возвратясь с прополки, просидела у своей палатки, не спуская прищуренных от солнца глаз, счастьем, любовью искрившихся, с находившегося прямо перед ней марлевого окошка Вадика.
– Ларис! Чего одна сидишь?! Иди к нам!…Вадик здесь, – ежедневно и по многу раз кричали ей через белую хлопковую паутинку Серёжка с Вовкой, жившие с Вадиком вместе и уже женихом дразнившие его, а Ларису – невестой.
Чарская, стыдливо порозовев, всегда опускала глаза в такие минуты, теребила нервно сорванный тут же на поляне цветок, но с места не трогалась, не убегала – сидела как вкопанная, ждала, когда её язвительные соседи наконец успокоятся… И когда насмешки с издёвками затихали действительно, и в палатке напротив устанавливалась относительная тишина, она опять поднимала глаза и опять настойчиво упиралась ими в заветную марлевую заплату-отдушину. И Серёжка с Вовкой, отъявленные проказники и озорники, получали повод в очередной раз похохотать, поиздеваться над нею.
– Заканчивайте, парни, скалиться-то! Чего вы, в самом деле, к ней привязались? – жалея Ларису, увещевал Стеблов развеселившихся не в меру приятелей. – Шли бы вон лучше в лес погулять: какого рожна тут как привязанные торчите?!
– А ты сам-то чего лежишь? в лес не идёшь? – отставая от Чарской, переключались Макаревич с Лапиным уже на самого Стеблова. – Его там такая девушка который день дожидается, а он тут как крот сидит – книжки, видите ли, читает. Иди, пригласи её куда-нибудь: видишь, как она вся измаялась.
И они хватали лежавшего рядом товарища за руки и за ноги и начинали на полном серьёзе выпихивать его из палатки, все силы к тому приложив.
– Да отвяжитесь вы от меня, дураки! – яростно, как от вражины лютой, отбивался от них Стеблов, кулаками направо и налево размахивая без разбора, горячими тумаками густо осыпая дружков. – Вот прицепились!
Паренёк он был крепкий, жилистый. Уже и тогда – отменный спортсмен. И уступавшие ему в физическом развитии Лапин с Макаревичем, ушибленные плечи и спины почёсывая, быстро отпускали его, отползали со стоном прочь, чувствуя слабость свою и полную бесперспективность затеи вытолкать Стеблова на улицу, с Чарской его соединить. А через какое-то время, успокоившись и остыв, отдохнув от работ и обеда сытного, они и вовсе уходили в лес, оставляя Вадика одного в палатке. Уходили – и всю дорогу посмеивались над ним, таким упрямым и бессердечным.
Они уходили надолго и возвращались к ужину только: ежедневно ягоды собирали, играли в футбол, в волейбол, часами просиживали у костра, с девчонками амурничали и обнимались. И кто посмеет их осуждать за такое? – ведь было лето жаркое, девственный лес кругом, лагерь труда и отдыха на его поляне. А в лагере было много приятелей давних и очень миленьких и симпатичных подруг. И, главное, – было много-много у них у всех свободного на тот период жизни времени! Глупо было бы не воспользоваться таким дорогим подарком, упускать-транжирить золотые деньки, глупо и расточительно.
Серёжка с Вовкой и пользовались свалившейся на них свободой, пользовались сполна. Под вечер возвращались в палатку дурные, счастливые, утомившиеся, клубникой, дымом, примятой травой пропахшие, не остывшие от поцелуев и ласк, песен, смеха и жара костров пылающих.
Что же касается их дружка упёртого, скромного, – то он из палатки своей почти что не выходил: сидел там после работы безвылазно до ужина и отбоя. Но те две недели июньские, жаркие крепко запомнились и ему, были и для него, домоседа, необычайно счастливыми и полезными. И ответственными за то были два человека – Лариса Чарская и Иван Александрович Гончаров с его знаменитым “Обломовым”, любимым литературным произведением матери Вадика, Антонины Николаевны, купленным той лет двадцать назад на стипендию. Роман матушка помнила почти наизусть, постоянно дома детям цитировала и рекламировала. Его-то её старший сын и захватил с собой, намереваясь за две недели осилить.
Тихая поляна в лесу, залитая ослепительным июньским солнцем, белоснежными берёзами окружённая с четырёх сторон и ветром ласковым обдуваемая, – идеальное место для Гончарова, близкого знакомства с ним и его героями, для погружения в атмосферу тех лет. Тепло и солнечно было вокруг, тепло и покойно – в романе. Именно душевную теплоту и покой почувствовал Вадик сразу же, с первых страниц, с удовольствием погружаясь в родную историю, мир русской жизни середины XIX века. Всё там было родное до боли, знакомое, великоросское! Всё услаждало, умиротворяло и убаюкивало, счастьем душу детскую заполняло, гордостью; заставляло “глотать и глотать” страницу за страницей. Гончаров своим неспешным повествованием на удивление мягко и органично ложился на сердце, и Вадик довольно быстро понял, что это – его писатель, и они подружатся. Он читал и думал восторженно, лишь на мгновения останавливаясь передохнуть, что права была матушка, безусловно права, заставлявшая их прочитать роман, утверждавшая не единожды по вечерам окружившим её детишкам, что в книжице этой – сам русский дух и “Русью пахнет”…
До главного в романе – отношений Обломова с Ольгой Ильинской – Вадик в то лето так и не дошёл, не успел дойти. И, по правде сказать, не очень-то и сожалел об этом. Их нежность трепетную и чистоту ему сполна заменила тогда Лариса Чарская…
Утомившись читать в полутьме, да ещё и разгадывать и понимать ушедшие в прошлое архаизмы – фестоны, шлафроки и эспаньолки, Геркулесовы столпы и всё прочее, – он откладывал в сторону книгу, тёр руками глаза, потягивался сладко, зевал, приподнимался с тугих физкультурных мат, что в лагере им заменяли кровати, и осторожно подкрадывался к единственному в палатке окошку – проверить будто бы, что в мире делается, всё ли на месте там. Часто-часто колотилось его сердечко всякий раз, когда он украдкой выглядывал в него, – потому что был абсолютно уверен, на физическом уровне ощущал присутствие рядом Ларисы.
Не единожды предчувствие не обмануло его – девушка всегда была рядом: сидела и упорно смотрела в его окно в течение всего светового дня, грустила чуть-чуть и мечтала. Она, как и он, никуда не ходила после работы – и ничего совсем не читала. Единственной страстью её, вероятно, и “книжкой” был живший напротив Стеблов, которого она две недели страстно высматривала в поле и лагере, знакомства и дружбы с которым ждала – и не скрывала этого.
Откинув брезентовый полог жилища, она сидела у входа своего крохотного лесного “домика”, грациозно положив на колени руки, и настойчиво смотрела вперёд, в самый центр оконного марлевого лоскутка стебловской палатки, что со стороны заплатку грязную напоминал, заплаткой и являлся по сути. Иногда в руках её был цветок – ромашка полевая или какой-нибудь лютик. Но чаще руки были пусты – красивые, белые, холёные руки, на которые хотелось смотреть и смотреть, и которые столько чувств вызывали, эмоций. Ухоженные руки женщины Стеблов и тогда, и потом больше всего ценил: для него это было верным знаком всегда благородства внутреннего и породы.