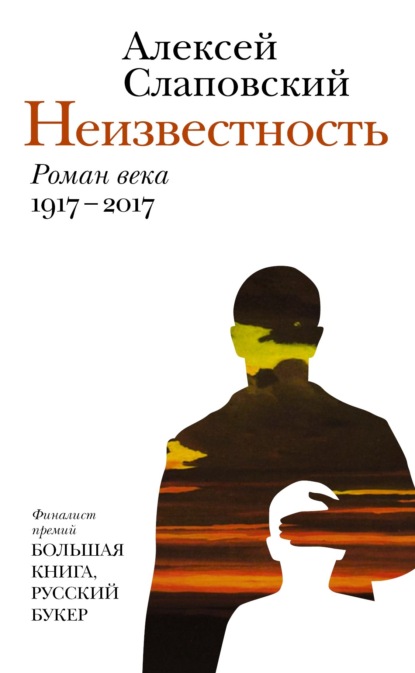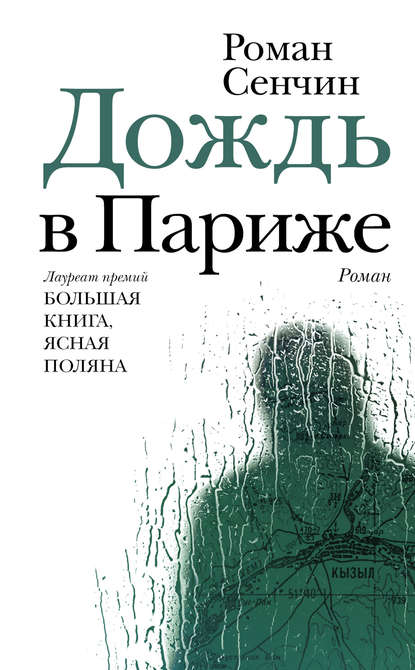Полная версия
Прусская невеста
Кульминацией встречи стал футбольный матч между командой «Генералиссимуса» и нашими спортсменами. Надо ли говорить, что игроки с парохода не оставили никаких шансов нашим ублюдкам? Гости продемонстрировали высокий класс, забив только в свои ворота более пятнадцати мячей. Особенно отличился их центрфорвард. Человек ангельского терпения, он в конце концов не смог вынести наглой выходки нашего вратаря, который, получив от него бутсой по челюсти, попытался подло покинуть поле. Разумеется, мы не дали негодяю уйти и задержали, чтобы отдать его в руки центрфорварду гостей. Но этот великодушнейший человек позволил нам самим расправиться с невежей, что мы и сделали, выбив мерзавцу кишки через глотку.
Весь день до захода солнца на корабле играли оркестры, их выступления перемежались сольными номерами флейтиста, чье имя не могли повторить даже отъявленные матерщинники. Божественные звуки флейты погружали слушателей в транс. Захваченные грезами, дети не хотели уходить домой. Их, впрочем, не особенно и понуждали.
Всю ночь до восхода солнца мы таскали и возили на судно провизию. Мы отдали – подчеркиваю, добровольно – все, что у нас было, и даже то, чему только предстояло быть. Со слезами на глазах благодарил нас капитан, от всего сердца упрекавший нас за щедрость, чреватую голодовкой. Но это нас нисколько не пугало.
Наутро, повесив и расстреляв наших футболистов, явно с коварным умыслом проигравших пароходной команде, экипаж «Генералиссимуса» отдал швартовы. Заглушая крики провожающих, оркестры на всех палубах грянули с такой силой, что у некоторых стоявших ближе к воде мозги вылетели через нос и уши. Корабль ушел, оставив после себя сухое русло и сглаженные, словно утюгом, берега, забрызганные рубленой рыбой. С тяжелым сердцем возвращались мы к себе. И только дома обнаружили, что на судне ушли все дети. Вероятно, их зачаровала прекрасная музыка. Мы завидовали нашим детям, получившим такую возможность повидать мир.
И только Кальсоныч, Общая Лиза и дед Муханов, не разделившие всеобщего ликования, тайком от всех отправились вслед за «Генералиссимусом». Увязая в зловонном иле, они с трудом одолели полтора километра пути и на исходе дня увидели корабль. Его черный проржавевший корпус лежал поперек русла, сквозь огромные дыры в бортах проросли дикие травы и кустарники, в каютах поселились змеи и мыши. Плосколицая сирена с собачьими сиськами, когда ее попытались вызволить из ила, чуть приоткрыла бронзовые глаза и тихонько пробормотала: «Ехал на ярмарку ухарь-купец…» Это были последние ее слова.
Кальсоныч опустился на корточки и дрожащими пальцами кое-как свернул козью ножку. Он вдруг почему-то вспомнил своих детей и жену, погибших в печах Освенцима, – и заплакал.
В густом ивняке у кормы обнаружили старшего сына Муханова – он не узнал отца и не смог ничего рассказать. Пока его вытаскивали из кустов, пропала Общая Лиза. Считается, что она ушла искать своих детей. Кальсоныч и дед Муханов с сыном вернулись домой, но никто не поверил, что они нашли корабль, тем более – погибший корабль. Судя по сообщениям печати, он успешно пересек моря и океаны и приближался к первому индийскому порту – Кальяо. Мертвый? Черный? Ржавый? Нет! нет! – в нашей памяти он навсегда остался огромным белоснежным красавцем с золотыми буквами на борту и высоким пенным буруном за кормой, алым от рыбьей крови…
Хитрый Мух
Настоящая фамилия этого скрюченного человечка с плоской, как блин, макушкой и косящими глазами, наезжающими на клубничину носа, наезжающего на неровно вырезанные губищи, – Мухоротов. Леонтий Мухоротов. Но в городке его знали только по прозвищу – Хитрый Мух. Сторож парка культуры.
– Чего ты там охраняешь? – выпытывали мужики. – Ломатую качель? Или бабу с веслом?
Леонтий хитро улыбался:
– Секрет.
– Какой такой секрет?
– Я знаю, что я знаю, – уходил от прямого ответа Хитрый Мух, тщетно пытаясь натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха. – Тайна.
В парке среди лип с гнилым нутром и буйных зарослей бересклета белели остовы аттракционов, увитые воробьиным виноградом, скрипел дверью пневматический тир, где за обитой мятым алюминием стойкой лязгал протезными руками и ногами сизоносый Виталий, всегда державший для дружков дежурный «маленковский» стакан, и высились там и сям гипсовые фигуры спортсменов с гипсовыми мускулами, рыбаков с чудовищными гипсовыми осетрами в руках и шахтеров – в позах, заставлявших предполагать вывих тазобедренного сустава. Забора не было, зато были ворота – всегда аккуратно выкрашенные ядовито-синей краской и всегда при замке, который Хитрый Мух ежеутренне торжественно отпирал и ежевечерне запирал, по-хозяйски покрикивая на пробегавших вдали прохожих: «Парк закрыто! Закрыто!»
Из окон его домика открывался вид на аллею с монументальной задницей девушки с веслом на переднем плане.
Скульпторы были главной его любовью и заботой. С утра до вечера бродил он по парку с ведерком разведенного мела и тщательно замазывал трещинки на гипсовых локтях и пятнышки на гипсовых коленях. Особым вниманием пользовалась девушка с веслом, чьи гипсовые формы Мух обихаживал с неподдельной любовью, непрестанно бормоча при этом какие-то заклинания.
Жил он одиноко и замкнуто, даже в общественную баню не ходил, что заставляло подозревать наличие у него какого-нибудь физического недостатка – вроде хвоста или крыльев. А поскольку вдобавок он и водку не пил, и держал свой дом открытым для бродячих кошек, которых иногда кормилось и роилось у него до трехсот, и, в довершенье всего, занимался селекцией животных и растений, – почитали его за полупомешанного.
Да, селекция была его страстью, неуправляемой и бестолковой, как всякая страсть. Он скрещивал всё со всем: смородину с крыжовником, репу с малиной, кошек с козами, овец с летучими мышами… Результаты опытов буйно цвели, росли, бегали и орали в саду и в парке, пугая случайных прохожих и дружков сизоносого Виталия. То вдруг мышь дерзко мяукнет на слабонервную Граммофониху, то овца какнет с дерева на Кольку Урблюда. К счастью, большая часть тварей просто дохла, не оставляя потомства.
– Бросал бы ты это дело, – хмуро советовал Виталий. – На кой тебе это?
– Да что ж, – жмурился Хитрый Мух. – А вот если кошку с собакой скрестить, какая животная получится?
– С драной жопой, – тотчас отвечал Виталий. – Морда вечно будет на хвост кидаться. Ты лучше женись.
Хитрый Мух задумчиво кивал.
Раз в три-четыре года ему и самому приходила в голову эта мысль. Свахи предлагали ему невест. Хитрый Мух ходил в гости, пил чай, глядя в стол и то и дело норовя натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха, – и в конце концов отказывался.
– Не, – отмахивался он от упреков Виталия, – нам таких не надо. Глухая она.
– Да зачем тебе слуховитая? – яростно лязгал протезами Виталий. – Скрести ее с курой – яйца несть будет. Польза. А?
Хитрый Мух долго мялся, пока наконец не выдавливал из себя, словно великую тайну:
– Некрасивая она…
– А ты! – срывался Виталий. – Помесь негры с мотоциклой! Кому ты нужен?
– Нужен, – хмурился Мух, – не может быть, чтоб никому не нужен.
Виталий долго смотрел ему вслед, машинально выборматывая ругательства, но в душе восхищаясь Хитрым Мухом, хотя и не мог даже себе ответить – почему.
На зиму сторож тщательно укутывал статуи соломой и мешковиной, но к весне дрянной гипс растрескивался, и с каждым годом приходилось тратить на поддержание скульптур все больше замазки и мела.
Зимой в заснеженном парке, кроме Муха, каждый день появлялся только сизоносый Виталий, упрямо просиживавший свой рабочий день за стойкой, потягивая самогон с крепким чаем и читая «Братьев Карамазовых».
А весной Виталий рехнулся. Однажды в полдень он вдруг выскочил на крыльцо тира с пневматической винтовкой и, вопя что-то невразумительное, открыл беглый огонь по кошкам, Муху и Буянихе, забежавшей к Леонтию за солью. Когда примчалась скорая, Виталий забаррикадировался в своем вагончике и отстреливался до последней пульки, потом обделался и свалился под стойку, откуда его, нестерпимо воняющего и неуправляемо лязгающего протезами, кое-как извлекли и засунули в машину. Стальная его нога заклинила дверцу. Санитар плюнул и велел ехать. Машина тронулась под истошный вопль Виталия: «Свободу братьям Карамазовым! Урра-а-а!»
Оставшись один, Хитрый Мух как-то незаметно сдал. Он пристрастился к чтению «Трех мушкетеров» и «Братьев Карамазовых» вслух под сенью девушки с веслом. Время от времени он вдруг замолкал и пытливо вглядывался в гипсовое лицо. А когда наступила зима, перетащил статую в свой дом.
В первую же ночь отогревшаяся девушка отставила весло в сторонку и, стыдливо пунцовея, стянула с себя трусы и майку. «Жмут, – смущенно прошептала она, робко взглядывая на приподнявшегося на локте мужчину, – и натирают».
И Хитрый Мух, наконец-то уразумевший, зачем он живет на этом свете, задыхаясь, принял ее в объятия.
Через несколько дней алкоголик Митроха, по привычке забредший в парк, наобум толкнулся в дверь к сторожу. Хитрого Муха он нашел в обледенелой спальне. Рядом с ним безмятежно спала девушка без весла. Ее заиндевелые волосы красиво разметались по подушке. Митроха на цыпочках удалился.
При осмотре и вскрытии никаких физических изъянов у Хитрого Муха не обнаружилось. В поисках клада добровольцы перерыли весь дом, сад и парк, но – ничего не нашли. Так мы и не узнали, в чем же заключалась хитрость Хитрого Муха и в чем – тайна.
Гипсовую девушку бросили в кусты бересклета – растрескавшуюся, с вытянутой вперед рукой и чуть приоткрытыми чувственными губами. Буяниха положила ей на веки два медных пятака. В голове у нее помутилось, горло сдавило, и Буяниха медленно осела наземь, глотая слезы и массируя грудь: сердце ныло и не отпускало.
– Господи, – прошептала Буяниха, – жизнь это наша – или сон Твой, Господи?..
Китай
Поздним весенним вечером Катя Одиночка услыхала шум у входной двери. Набросив на плечи платок и вооружившись кочергой, она выглянула наружу. На крыльце лицом к стене лежал мужчина. Катя присела на корточки и издали ткнула его кочергой в плечо. Он глухо застонал и отвалился на спину. Лицо его было черным от крови. Втащив незнакомца в прихожую. Катя убедилась, что водкой от него не пахнет. Она разбудила жившего напротив Юозапаса, который беспрекословно запряг лошадь и отвез мужчину в больницу. Вернувшись домой, Катя обнаружила на крыльце чемоданчик, перевязанный шпагатом. Бросила чемоданчик под кровать и легла рядом с дочкой.
Спустя два дня в гостиницу за рекой прибрел, шатаясь и хватаясь руками за заборы, мужчина с огромной от бинтов головой. Охнув, Одиночка схватила его за руку и потащила в свою комнату.
– Чемодан, – прохрипел он. – Где мой чемоданчик?
– Тут он, тут, – успокоила его Катя. – Ложись-ка.
– Хлеба дай, – попросил мужчина. – Черного.
Она принесла кирпич свежего хлеба. Сжав зубы, мужчина содрал бинты и облепил бритый череп еще теплым хлебным мякишем. Катя уложила его в большой комнате, а сама перебралась в чуланчик к дочке.
Неделю незнакомец не принимал пищу и не откликался на известные Кате мужские имена. С утра до вечера она хлопотала по гостинице, вечерами беззлобно переругивалась с пьяненькими командирами (так в городке называли немногочисленных командированных, приезжавших на бумажную фабрику), то и дело норовившими ее облапить, и поздно вечером, поцеловав шестилетнюю Сонечку, сваливалась на тюфяк, в глубокий и безрадостный сон. Ей снился ее первый муж, уехавший на Север зарабатывать большие деньги и там сгинувший, второй муж, выпивший с похмелья залпом бутылку «мутиловки» – метилового спирта – и тотчас скончавшийся, третий муж, отец Сонечки, утонувший на грузовике в весенней реке. «Невезуха, – говорила она бабам с виноватой своей улыбкой. – Видно, на роду написано». Была она маленькая, худенькая, с тощей шейкой, на которой торопливо пульсировали тонкие жилки.
Когда, наконец, незнакомец пришел в себя и впервые поел, Катя отвела его к доктору Шеберстову.
– Хлебом, говоришь, залепил? – Доктор быстро ощупал голову пациента. – Не говном – и то хорошо. Кружится? Болит? Руки не дрожат? Покажи.
Вместо того чтобы вытянуть руки перед собой, мужчина достал из кармана нож с выскакивающим лезвием, которое кончиком прижал к толстой пачке писчей бумаги, лежавшей на столе.
– Сколько?
– Чего? – не понял доктор.
– Проколоть сколько?
– Ну… девять, – сказал Шеберстов.
– Считай. – Мужик спрятал нож в карман. – Девять.
Шеберстов отсчитал девять листов бумаги, прорезанных ножом, и уставился на десятый, на котором не осталось и следа.
– Не дрожат, – сказал мужик. – Спасибо.
– Ну и ну, – сказал Шеберстов. – Как я понимаю, такие ножики пером называются? Так ты постарайся пореже его здесь у нас вытаскивать.
По дороге мужчина купил водки, колбасы, шоколада и золотые часики – для Кати.
– Мне? – ахнула Одиночка. – Слушай… как тебя зовут-то хоть?
– Зови Петром. – Он пожал плечами. – Какая разница.
Перед тем как лечь спать, она примерила золотые часики на Сонечкину руку. Часы соскользнули к локтю. Катя поцеловала счастливо улыбавшуюся в полусне девочку, от которой пахло шоколадом, брызнула под мышки духи «Красная Москва», подаренные профсоюзом к женскому дню, и поправила лямки ночной рубашки на худеньких плечах. Вдруг спохватилась и взялась стричь ногти на ногах – плотные и искривленные плохой обувью.
– Ну чего ты там? – позвал Петр. – Или заснула?
С недостриженными ногтями, пахнущая потом и духами, чуть косолапя от смущения, Катя боком пробралась по стенке в комнату, легла на кровать, стараясь выпятить грудь так, чтобы она казалась больше, – и в очередной раз начала новую жизнь.
Отыскав на чердаке кресло-качалку, Петр при помощи проволоки и гвоздей кое-как починил его и целыми днями просиживал, уставившись на стену перед собой, на которой повесил небольшую карту Китая. Одиночка не спрашивала его ни о чем. А он в иной день мог не произнести ни слова: завтракал, обедал, ужинал – и всё молчком. Да сидел в кресле перед картой, покуривая папиросы.
За суетой по гостиничным делам Катя и не заметила, когда и куда исчез чемоданчик из-под кровати. «Я убрал», – только и сказал Петр. В конце месяца она нашла на столике перед зеркалом пачку денег. Пересчитала – и у нее перехватило дыхание.
– Да если я с такими приду в магазин, меня засмеют, – прошептала она ночью Петру в плечо. – Или посадят. Это из чемоданчика, что ли?
– Трать понемножку, – сказал Петр. – Жизнь прожита.
Катя тихонько засмеялась: ей было хорошо.
Она располнела, стала забывать, как сжимать губы в ниточку, и не опускала глаза, проходя мимо чужих мужчин.
Вечерами Сонечка взбиралась Петру на колени, и он, тихонько раскачиваясь в кресле, рассказывал ей о Китае. Это была страна желтой земли и медлительных рек со сладкими золотыми рыбками. Янцзы, Хуанхэ…
– Это где? Что это? – спрашивала Сонечка.
– Вот. Река. Как эта, – он кивнул на окно, за которым неслышно текла Преголя. – Хуанхэ.
– Эта хуанхэ называется Преголя, – сказала Сонечка. – Значит, наш китай называется Россия?
– Ну да. А ихняя россия – Китай.
По берегам рек там жили люди с крыльями вместо лопаток. Почуяв приближение смерти, они прощались с родными и улетали на озеро Цилинг-цо, где доживали остаток своей вечности, – но живым путь туда был заказан. Китайцы никогда не путешествовали и не воевали, давно поняв, что пространство и время – это одно и то же. Они никого не любили, но никого и не ненавидели. Друг к другу в гости они летали верхом на пышно-красивых фазанах. Питались яблоками и чаем, который рос в садах, подобно траве. Нарочно для детей вывели породу крошечных животных – волков, слонов и тигров, не выраставших больше котенка.
– Хочу такого слоника… – бормотала сонная девочка.
– Бэйпин, – шептал Петр, – Цзинань… Нанкин… Шанхай… Нинбо… Кантон…
Девочка засыпала, он относил ее на кровать в чуланчик, на стене в котором, на вбитом в стену гвоздике, висели золотые часики: Катя стеснялась носить их.
– Какие-то чудеса ты рассказываешь, – сказала она. – Разве такое бывает?
– А какая разница? – не сразу ответил он. – Откуда мы знаем, что такая страна вообще есть? Нету ее.
– Ну… как же… – растерялась Одиночка. – Про Китай все знают… вот и карта…
– Про ад тоже все знают, – усмехнулся Петр. – Все знают, хотя никто там не бывал. И картинки про ад рисуют. Книжки тоже пишут. Я одну такую читал… как мужики по аду путешествовали. – Опустившись в кресло, добавил: – Лет двадцать с собой эту картинку таскаю. Приколю где-нибудь к стенке – и вот я дома. В Китае. Чунцин, Чэнду, Чифу… С ума сойти!
После таких разговоров Одиночке снились мертвые мужья, и она просыпалась, задыхаясь в их объятиях.
На зиму Петр оформился истопником и слесарем в гостинице. Он таскал уголь из подвала, следил за котлом и менял прокладки в вечно текущих водопроводных кранах. Редкие жильцы, пытавшиеся завязать с ним знакомство, чтобы вместе избывать скуку зимних вечеров, наталкивались на непроницаемую стену молчания. Выслушав их, Петр поворачивался к гостю спиной и погружался в созерцание карты Китая.
Весной Сонечка провалилась под лед. Выпив водки, мужики полезли в реку и долго шарили баграми подо льдом, но так и не нашли девочку. Вернувшись домой, Катя зашла в чулан, посмотрела на золотые часики, висевшие на гвоздике, и упала в обморок.
Петр не утешал Катю. Они часами молча лежали в постели. Было так тихо, что хотелось кричать. Одиночка вжималась в его большое тело, но не могла согреться. Однажды она спросила со стоном:
– Миленький, ну почему от тебя ничем не пахнет? Ни по́том, ни ногами… Хоть бы подеколонился, что ли…
– Это бесполезно, – возразил он, но вечером умылся тройным одеколоном.
А утром он отправился в поссовет к Кальсонычу и долго о чем-то с ним разговаривал. Потом зашел к столярам в леспромхоз. После – к Чекушке, возглавлявшему нестройную компанию музыкантов, игравших на свадьбах и похоронах.
В четверг звуки духового оркестра вытащили на улицу молодежь и стариков. В похоронной полуторке, выкрашенной черным лаком, стоял украшенный бумажными цветами и туей детский гроб, возле которого сидела полусонная Одиночка. За полуторкой шагал Петр в черном костюме и надвинутой на брови шляпе. За ним на почтительном расстоянии – оркестранты. Пораженные люди потянулись следом, и на кладбище собралась толпа, какой здесь не видели с похорон памятника Сталину (чтобы не отправлять его в переплавку, мужики похоронили его на Седьмом холме с соблюдением всех правил и обрядов).
– Гроб-то пустой, – прошептала Буяниха, дыша чесноком в ухо Кальсонычу. – Не грех это? Человека-то там нету.
– А людей и не хоронят, – невозмутимо ответил председатель поссовета. – Хоронят мертвых.
Воскресным майским днем Петр вдруг остановил кресло-качалку и, не отрывая взгляда от карты, негромко проговорил:
– Вот и все, Катя.
Вечером Одиночка нашла его на крыльце. Он был убит выстрелом в лицо. Возле трупа валялся разодранный на две половинки чемоданчик. Катя взяла у Юозапаса лошадь и отвезла его в больницу.
Спустя час в больницу примчался участковый Леша Леонтьев.
– Прооперировал? – спросил он у доктора Шеберстова.
Доктор вздернул брови на лоб.
– Это называется эксгумацией. – Он поманил участкового пальцем: – Пойдем-ка. Я еще никогда такого не видал.
Они спустились в подвал и мимо кухни прошли низким сырым коридором с кирпичными стенами в длинную комнату, в углу которой лежали плиты серого льда. Шеберстов включил светильник под потолком и откинул простыню. Леонтьев медленно поднес ладонь ко рту.
– Сколько ж это он… И когда?
– Он умер около года назад, – сказал Шеберстов, накрывая простыней нестерпимо пахнущее разложением тело, киселем расползшееся на гранитной плите. – Выстрел ничего не добавил, можешь мне поверить.
Когда они вернулись в кабинет главврача, Леша жадно выпил стакан кислого компота и, отдышавшись, сказал:
– И как я все это объясню начальству? Дела!
– Эти дела касаются живых людей, – сказал Шеберстов.
Катя опустилась в кресло и уставилась на карту Китая, желтевшую в сумерках неровным пятном на серой стене. Она и не заметила, как уснула. Проснувшись, зачем-то отыскала на карте Бэйпин. Проглотила застрявший в горле ком и прошептала:
– Бэйпин. – Перевела взгляд. – Хуанхэ.
Хуанхэ на карте, Преголя за окном. Река и река. Тут Преголя, там – Хуанхэ. Тут и тут. Там и там.
– Хуанхэ! – простонала она – и заплакала. Она вдруг поняла, что отныне обречена на созерцание этой карты, на жизнь в этом Китае – в этом аду…
По Имени Лев
Солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол.
Таков закон.
Первым на поле выбегал Яшка Бой – долговязый, щегольски приволакивающий ноги, в черном свитере с заплатанными локтями и цифрой 1 на спине; за ним выпрыгивал на газон резиновый Кацо – круглая бритая голова, черные лохматые брови в половину лба, из середины которого ледокольным форштевнем выплывал огромный нос, упиравшийся в густую щетку черных усов; следом – Молодой Лебезьян, сын Старого Лебезьяна, носивший под трусами, для защиты от коварного удара, заговоренную хлебную корку; Серега Старателев, улыбавшийся двумя рядами стальных зубов, перед игрой тщательно надраенных напильником; Колька Урблюд с красной повязкой на правой ноге, каковой ему запрещалось бить пенальти – во избежание гибели вратарей; Котя Клейн с губами алого мармелада, носивший на груди мешочек с собственными зубами – от выпавших молочных до выбитых коренных; Черная Борода, чья шкура, казалось, того гляди треснет под напором мускульного мяса; Старшина с налитыми кровью глазами и черной ниткой вокруг бычьей шеи – на счастье; Толик – горластый и кадыкастый хохмач, умудрившийся однажды на спор завязать свой член узлом; Алимент, «алиментарно» забивавший в каждом матче по голу благодаря бутсе с секретным гвоздем в подметке; наконец, Иван Студенцов, ничем не примечательный, кроме роста…
Под нестройный свист мальчишек, валявшихся на траве за воротами, на поле трусцой выбегал По Имени Лев – нет-нет, не тот известный всему городку парикмахер, похвалявшийся, что может любого побрить ногтем, толстяк в несвежем халате с прорехой на вислом пузе, – в черной рубашке с белоснежным отложным воротничком, в черных же трусах и гетрах, с мячом под мышкой, с неизменным плоским свистком, прыгавшим на жирной груди, на середину поля выбегал бог-распорядитель футбольного действа, приветствуемый паровым оркестром – только трубы и барабаны – и восторженным хором мальчишек: «На-мы-ло! На-мы-ло!» После обмена приветствиями, выбора ворот и первого свистка По Имени Лев – уж таков был ритуал – легким касанием бутсы вводил мяч в игру и переставал существовать, как Бог, некогда запустивший древнюю машину жизни и вмешивающийся в ее ход лишь по нужде, а не по зову.
В перерыве болельщики устраивались на травке у ограды стадиона, вокруг расстеленных газеток, на которых раскладывали свежие огурцы и помидоры, хлеб и разящее чесноком сало, уже чуть согревшееся и расплавившееся, но незаменимое под стакан водки с горкой.
Дети со своими пятачками и гривенниками осаждали огромный автофургон, где Феня из Красной столовой, во всегдашнем своем клеенчатом фартуке, торговала леденцами, печеньем и скрипящим в носу лимонадом.
Успевшие подпить музыканты исполняли «На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны» – во главе оркестра совершенно лысый круглый Чекушка с трубой, на отлете – его сын Чекушонок, уныло раскачивавшийся над постылым барабаном.
По завершении игры команда рассаживалась спиной к раздевалке, и Андрей Фотограф запечатлевал на пленку тщательно выстроенную композицию победы: в центре директор фабрики, содержавшей команду и стадион, тренер и По Имени Лев, перед ними на корточках с кубком или вымпелом капитан Черная Борода, по бокам игроки в мокрых от пота алых футболках. После этого из шкафчика, где хранились награды, извлекался вместительный кубок, заполнявшийся до краев водкой. Пили по кругу – игроки, директор фабрики, дед Муханов с вросшей в нижнюю губу сигаретой, набитой вместо табака грузинским чаем, председатель поссовета Кальсоныч, когда-то работавший вместе со Львом в парикмахерской, и даже старуха Синдбад Мореход, зорко следившая, чтобы мальчишки не утащили из раздевалки ее законную добычу – пустые бутылки.
В случае же поражения выпивка естественно перерастала в драку с финальным битьем вечно попадавшего под руку Чекушонка.
Но ни победа, ни поражение не мешали игрокам и зрителям воздавать по заслугам самому честному, самому беспристрастному и самому твердому судье всех времен и народов, каковым, без преувеличений и скидок, являлся По Имени Лев. И если закон гласил, что солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, а по воскресеньям бывает футбол, – то можно с чистой совестью добавить: По Имени Лев никогда не ошибался. Его достоинства были так хорошо всем известны, что иногда федерация разрешала судить ответственные матчи с участием команды из нашего городка. Однажды игроки и зрители сбросились и закупили в гастрономе все запасы лаврушки, чтобы поднести Льву пусть и лохматый, но зато от всего сердца огромный венок, размером с автомобильное колесо, – в знак признания его заслуг.