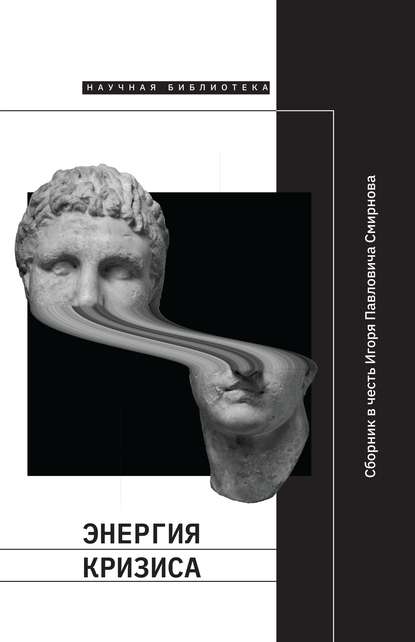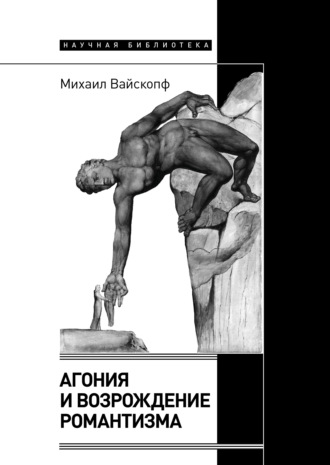
Полная версия
Агония и возрождение романтизма
Даже лукавая «улыбочка» гостя и его способность удерживаться от смеха, столь впечатлившая Онуфрия Гниду и воспринятая им в качестве главного признака «гоголевщины», тоже в общем совпадает с тем, что известно нам о специфической манере Гоголя-чтеца и юмористического рассказчика. С. Т. Аксаков даже счел ее отличительным свойством малороссийского юмора[121].
К тому времени, когда Ковалевский живописал самозваного Гоголя, Гоголь подлинный был устремлен уже к новой, пафосно-дидактической стадии своего творчества, которой предстояло разрешиться «Мертвыми душами», «Театральным разъездом», «Развязкой „Ревизора“» и эпистолярной публицистикой. Но каким бы наивным анахронизмом ни выглядела в 1840-х годах повесть Ковалевского, она все же смогла оказать определенное воздействие на этого нового Гоголя, поскольку являла собой беспрецедентный опыт по внедрению его собственной личности в чужой литературный текст, запечатлевший устоявшийся взгляд на писателя. Автор «Ревизора», сам как бы ставший его персонажем, увидел себя со стороны, глазами своих читателей.
Вместе с тем «уездная быль» еще не могла сказаться на втором отдельном издании комедии, напечатанном в 1841-м. Работу над ним Гоголь закончил в Риме в первой половине марта 1841 года – то есть как раз тогда, когда в далекой Москве только что вышел номер «Пантеона» с сочинением Ковалевского (цензурное разрешение от 26 февраля). В Россию Гоголь приехал лишь в начале октября.
Иначе зато обстояло дело с последующей редакцией, опубликованной уже в 1842-м в составе гоголевских Сочинений. Там явственно отозвались пассажи из Ковалевского – точнее, тревоги его судьи, взбудораженного своей литературной участью:
А там, глядь, он перекрестил бы меня из Гниды в какую-нибудь Землянику и предал бы тиснению весь рассказ мой от словечка до словечка.
И ниже:
А потом перекрестит тебя в какого-нибудь Тяпкина-Ляпкина, да и предаст печати, на потеху всего уезда… Да что? всей губернии!.. Да что? всей империи! (С. 23.)
В новой версии «Ревизора» его тирада повторится почти дословно. Под влиянием «уездной были» впервые прозвучат и выпады Городничего в адрес неведомого литератора – то есть самого Гоголя, – и отчаяние по поводу того, что вся Россия узнает о его позоре. Да и не только Россия:
Мало того, что пойдешь в посмешище – найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит <…> и будут все скалить зубы и бить в ладоши.
И там же:
Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий!
Опасения персонажей «Гоголя в Малороссии» касательно насмешливой наблюдательности комедиографа («Так вот и цепляется… так и придирается к каждому слову»; «такой критикант, всех описывает!») в том же 1842 году отозвались и в «Театральном разъезде», у Дамы среднего света:
Но только какой злой насмешник должен быть этот автор! Я признаюсь, ни за что бы не хотела попасться к нему на глаза. Этак он вдруг заметит во мне смешное.
Напомним, что поздний Гоголь интерпретировал свое искусство как сложную систему направленных друг на друга зеркал, совместно корректирующих объект отражения. Суммарным его героем, как и суммарным читателем, становится в итоге сама Россия. Отобразив в «Мертвых душах» различных ее представителей, собранных в «типы», автор способствует их нравственному исцелению, а в перспективе – духовному пробуждению всей империи. Для этого он сгущает либо негативные, либо позитивные их черты. Взирая на первые, читатель, по его замыслу, будет отторгаться от них с благородным негодованием, а любуясь вторыми – тянуться к добру, олицетворяемому положительным героем. Но чтобы сделать такие образы по-настоящему действенными, автор должен придать им жизненную достоверность, узнаваемость. Это именно та способность, которую приписывает ему встревоженный судья: «Всякого скопирует… выльет как живого», – и которую сам писатель через несколько лет объявит главным своим достоинством. Изображая свою творческую эволюцию в письме к Жуковскому, или так называемой «Авторской исповеди» (1847), Гоголь приписывает аналогичную оценку собственного дара сперва своим нежинским соученикам, а затем Пушкину, обнаружившему у него «способность угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого»[122]. Тогда-то, продолжает он, Пушкин и подарил ему сюжет «для большого сочинения» – сюжет «Мертвых душ». Однако столь ответственное произведение потребовало от Гоголя как досконального изучения «души всякого человека», так и собственной перестройки.
Чтобы убедительно представить «нынешнего русского человека», ему, живущему на чужбине, необходимы «все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете». Но стоит ли самому писателю путешествовать для этого по России? Отвергая целесообразность таких вояжей, Гоголь рисует их гипотетические результаты, вторящие сюжету Ковалевского:
Разъездами по государству немного возьмешь <…> Могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь только сюжет для комедии, имя которой бестолковщина. Если же узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеяния всего, что ни есть в человеке, от головы до ног[123].
Это как раз то представление о «сатирическом писателе, который пострашней всякого ревизора», что ранее продемонстрировал Онуфрий Лукич:
А этот опишет тебя с головы до ног, подметит всю твою натуру: все поговорки, все ухватки, ничего не оставит в покое, до всей подноготной докопается <…> да и предаст печати, на потеху… (С. 23.)
Однако если разъезды заведомо бесполезны, как же он, живущий вдали от России, сумеет собрать необходимые ему сведения? За ними Гоголь обращается прямо к читателям. Второе издание поэмы, выпущенное в 1846 году, он предваряет обращением, где просит их присылать ему свои поправки, возражения и уточнения – а «о слоге или красоте выражения здесь нечего беспокоиться»[124]. Главное, чтобы они поподробнее с ним делились своим собственным опытом, по возможности иллюстрируя его подходящими житейскими историями, «не пропуская ни людей с их нравами, склонностями и привычками, ни бездушных вещей, их окружающих». Иначе говоря, читателю предлагалось стать соавтором книги. Пером Гоголя Россия должна была писать – и переписывать заново – самое себя. Увы, просьба осталась безответной, о чем он укоризненно напоминает в «Выбранных местах» – в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», где сюжет поэмы осмыслялся «как дело, взятое из души, и душевная правда».
Сама же эта его установка на доверительность, безыскусность и чистосердечие тоже, по-видимому, подсказана была персонажем Ковалевского. Когда жена спрашивает судью, зачем Гоголь, выдавая себя за собственного однофамильца, предпочитает действовать «инкогнито», Онуфрий Лукич разъясняет:
Ну, для того, чтоб я обращался с ним не как с писателем, а повольней, за панибрата, как с простым дворянином… Слово за словом, да и пересказал ему все, что лежит на душе, не заботясь о том, чтобы выражаться прилично, по-книжному, а так, знаешь, по вольности дворянства… (С. 26.)
Похоже, та стратегия расспросов, которую бдительный Гнида инкриминирует здесь своему гостю, для позднего Гоголя становится прямым руководством, но отнюдь не к сатире и юмористике, а к спасительному социальному действию. «Душевный город» из «Развязки „Ревизора“» на сей раз смыкается у него с городом земным, подлинным, подлежащим всесторонней ревизии со стороны самого писателя, словно воплотившего собой ту нравственную альтернативу, которой некогда так недоставало резонерам, порицавшим его комедию. В одной из программных статей «Выбранных мест» – «Что такое губернаторша» – он навязывает А. О. Смирновой, своей приятельнице и жене калужского губернатора, методику задушевного выведывания истины – очень близкую к той, что вменял ему Онуфрий Лукич Гнида. Губернаторша должна разузнать для Гоголя побольше сведений о пороках и нраве горожан; а уж тот, составив себе представление о нравственном облике ее подопечных, найдет способ воскресить падшую Калугу. Так, следует порасспросить женщин. «Вы же имеете дар выспрашивать, – убеждает он Смирнову. – Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, кто что любит, что кому нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно». То же касается любых сословий, например, мещан и купечества: «Мне нужно взять из среды их живьем кого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы, во всех подробностях», – и всех «лучших в городе»: «Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как можно их подстрекнуть».
Сетуя в первом из «Четырех писем…» по поводу отсутствия читательских откликов на свою поэму, Гоголь заявил: «У писателя только и есть один учитель – сами читатели»[125]. Вознамерившись стать учителем жизни, он на деле и сам многому сумел научиться у своих простодушных поклонников, которых изобразил Ковалевский. Мнимый Гоголь все же пригодился Гоголю настоящему.
2009Проблема модального статуса в сочинениях Гоголя
Предлагаемый очерк содержит некоторые дополнения к вопросам о модально-философской подпочве творчества Гоголя, в том или ином объеме затронутым мною ранее[126]. На мой взгляд, дальнейшего изучения заслуживает сама мера бытийности или небытийности гоголевского мира с точки зрения его создателя. По существу, перед нами проблема литературной онтологии.
Смена, а правильнее, трансгрессия обеих этих универсалий – небытия и существования производится писателем с магической легкостью, беспрецедентной для его современников. Покидая Манилова, Чичиков говорит его детям: «Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете». Несколько выше он успокаивает Манилова, ошарашенного его деловым предложением: ведь, по словам гостя, речь идет о душах, «не живых в действительности, но живых относительно законной формы». Почти мгновенно, однако, эта чисто канцелярская «жизнь» переносится Чичиковым на самих мертвецов, будто возвращаемых «законной формой» к полноценному бытию: «Мы напишем, что они живы, так, как действительно стоит в ревизской сказке».
В поэме развертывается многослойная иерархия квазибытия – перепады и вибрации несуществования, которое посредством виртуозных ухищрений мгновенно или поэтапно перерастает в осязаемое подобие подлинной жизни. Отправным пунктом для этого процесса остается, естественно, физическая непреложность самой смерти. В первом томе ее вещественная реальность маркирована смятением Коробочки и успокоительными речами героя: «Ведь кости и могилы – все вам остается»; а во втором – подарком генерала Бетрищева, доверившегося россказням Чичикова: «Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище!» Знаменательно между тем и промелькнувшее здесь фольклорное отождествление могилы с жилищем, привносящее сюда неуловимый, чуть ли не балладный оттенок посмертного бодрствования, столь значимого для Гоголя.
На многоступенчатой и многосложной динамике семантических сдвигов построен спор героя с Собакевичем, чрезвычайно важный для анализа темы.
1. «Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими».
2. Однако нахрапистый хозяин, вымогая высокую цену за свой выморочный товар, напоминает визитеру, что тот хочет приобрести у него не какие-то «несуществующие», а именно «ревизские души» – то есть нечто, все еще обладающее бюрократическим существованием.
3. Заодно Собакевич, все в тех же меркантильных видах, как бы взывает и к подразумеваемому почитанию самой души человеческой, которую покупатель кощунственно уравнивает с вещами: «Ведь я продаю не лапти».
4. Чичиков в ответ отвергает оба эти определения – и прозвучавшее («ревизские»), и подразумеваемое (душа человека), – а свой термин «несуществующие» заменяет теперь словом «мертвые» (которым поначалу предпочел воспользоваться как раз его собеседник). Прежняя мощь и энергия покойников ныне вообще ничего не значат и, следовательно, ни гроша не стоят; а былая «душа» их стала лишь фикцией: «Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то сами давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук».
5. Тут Собакевич, уязвленный недооценкой товара, разражается панегириком своим покойным крепостным, настолько восхваляя их могучую витальность, что они словно бы заново обретают жизнь. Подмена производится им посредством чуть приметных грамматических сдвигов, переводящих глаголы из прошедшего времени в условное настоящее и даже будущее. Каретник Михеев, не в пример другим, свои экипажи «и сам обобьет, и лаком покроет!»; Максим Телятников, сапожник, «что шилом кольнет, то и сапоги <…> А Еремей Сорокоплехин! Да этот мужик один станет за всех!»; «Ведь вот какой народ!»
6. Озадаченный его внезапным артистизмом («Мне кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия»), покупатель, однако, возвращает разговор на почву настоящего положения дел. Обходя молчанием скользкую тему души, он снова напоминает, что «это все народ мертвый» и что на деле Собакевич рекламирует сейчас именно трупы, не имеющие решительно никакой денежной ценности: «Мертвым телом хоть забор подпирай».
7. Тогда Собакевич использует уничижительную метафору, которая приближает сегодняшних никчемных людей к нежити – а не мертвых к живым, как было у него раньше; в любом случае, этот прием, сопряженный с канцеляризмом, почти что уравнивает их между собой. Его коммерческий напор возвращается как бы с обратной стороны: «Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».
8. Дезавуируя торгово-поэтический пафос собеседника, Чичиков переводит разговор в другую плоскость, где те же мертвые души – всего лишь ничто (то есть «несуществующие», по его прежнему определению), в отличие от этих убогих людей: те все же «существуют, а это ведь мечта».
9. В ответ Собакевич в заключительном приступе коммерческого вдохновения вновь актуализирует дивную мощь покойников: «Нет, это не мечта!»
Как бы то ни было, усопшие продолжат свое авантюрно-фантасмагорическое существование в ином, уже сдвоенном универсуме – одновременно потустороннем и здешнем: в том гипотетическом и потому безграничном мире, который созидался для них и в рекламных песнопениях Собакевича, и в последующих грезах самого Чичикова, проводящего смотр всем купленным душам, зачитывая их имена. В его творческих домыслах, намного более размашистых, чем «театральное представление», разыгранное Собакевичем, зерном их красочных биографий становится некая элементарно-психологическая константа, удержанная в «неосязаемом чувствами звуке». Для этого жизнетворно-загробного эпоса ценна любая подробность – и воображаемая, и настоящая, годится любая зацепка: «Каждая из записочек имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер». – Следует обширная панорама таких «характеров», воплощенная в серии микросюжетов.
Пресловутые алогизмы, которыми изобилует гоголевское творчество и которыми еще столетие с лишним назад занимался в Гельсингфорсе И. Мандельштам, сами по себе здесь мало что объясняют. В «Вие» даны разговоры, почти неотличимые от концовки «Носа» (см. ниже) и все же чрезвычайно многозначительные в своей акцентированной бессмыслице:
– И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, – то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает что. Вот что!
Ср. далее беседу Хомы Брута с казаками о «соразмерном экипаже», в котором его везут потом на роковой хутор к мертвой панночке:
…Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром – положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, – достаточное бы число потребовалось коней.
Мы твердо ощущаем, что есть нечто общее между этим набором несуразицы и теми потусторонними сферами, которые потом во время ночной скачки на прекрасной панночке разверзаются перед малоосмысленным взором бурсака; но в чем именно заключается эта близость, установить трудно. Ясно лишь, что полнейшей неопределенности значений, предполагаемых пустым диалогом, соответствует бесконечность или, скорее, нелокализуемая широта ночных метаморфоз[127], гибельных для Хомы. Абсурдизм реплик – как бы семантический ноль повести, который разлагается на ошеломляющий плюс – неимоверно-страшную красоту юной ведьмы и на такой же минус: ее загробное окружение в церкви; и рай ночного ландшафта, и трупная преисподняя сюжета равно невыносимы для героя, но равно открыты для его пустого сознания.
Общеизвестным катализатором для спонтанно саморазвивающейся фантастики в гоголевской прозе 1830-х годов служат досужие разговоры и сплетни. Не мешает, однако, внимательнее присмотреться к их модальному устройству. Ведь эти заведомо не верифицируемые слухи обычно имеют под собой все же какую-то минимальную – нулевую или, точнее, почти нулевую – основу, какой-либо коллективно-безымянный или же персонифицированный источник. Зачатый им фантом истины разрастается в нескончаемую круговерть призраков, отпущенных на сюжетный простор, – и тогда к базовой «несбыточности» «Носа» прибавляются другие «нелепые выдумки», по выражению негодующего резонера. Происходит нечто подобное тому, что мы наблюдали в споре Чичикова с Собакевичем: нужен лишь минимальный, порой чуть заметный толчок для головокружительных виражей мнимого бытия.
В концовке «Носа» мы встречаем подборку благонамеренных, но озадаченно-недоговоренных рассуждений. Безотносительно к эпатажному раздвоению рассказчика автокомментарий к поведанной им «истории» смещается в ту же семантическую зону неисследимых несуразностей, что и сам сюжет:
Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это…
С другой стороны, тонко градуированное затем размышление о «неправдоподобности» действия – взамен полнейшей его невозможности – парадоксально придает содержанию налет достоверности. В размытой ауре финального ретрокомментария совершенно немыслимое, логически нулевое «происшествие» фактически повышается в модальном статусе:
Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, – как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе <…> Неприлично, неловко, нехорошо!
(Следует недоумение и по поводу того, как, собственно, «нос очутился в печеном хлебе» у цирюльника.) Гоголь как бы заговаривает, усыпляет внимание читателя, отвлекая его от того, что «сверхъестественное», слитое с рядовой «странностью», тем самым получает и определенное право на существование. Иначе говоря, здесь, в концовке повести, взрывное разрушение реальности прикровенно легитимизируется благодаря его простому соположению с куда менее шокирующим ее подрывом – нарушением социально-этикетных условностей. Практически так же строится, однако, и весь сюжет повести с ее зачином насчет «необыкновенно странного происшествия»; но в заключительных ее строках прием педалирован:
А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают.
Что означает в этой осыпи невнятных догадок фраза: «И где ж не бывает несообразностей»? К чему тут относится слово где – к огрехам сочинения или к самой действительности? В возможности их смешения уже зреет и будущая вера творца «Мертвых душ» в прямое слияние его текста с жизнью и, соответственно, в способность автора создавать ее заново. Но в разбираемой повести нам интересна прежде всего техника модальных подмен. Как мы только что видели, в последнем ее абзаце абсолютно невероятное допущение объявлено всего лишь маловероятным («редко, но бывают»), что сразу приобщает его к теоретически возможным событиям – со всеми их бесчисленными вариациями.
Все эти приключения многоликого ничто – общий принцип гоголевской поэтики. Не только в «Носе» и «Мертвых душах», но и в ряде других произведений, например в «Ревизоре», сюжет или вводный микросюжет в модальном аспекте сводится к вещественной реализации того, чья реальность близка к нулю, а вернее, таковым и является; а при ином сюжетном раскладе этот исходный нуль, в свою очередь, оборачивается потенциальной бесконечностью.
В сознании Гоголя едва совместимые между собой онтологические уровни, разноплановые слои фабульного бытия, сосредоточенные в одном и том же сюжете, могут обладать и принципиально разным временем, причем одно время, как было в тирадах Собакевича, переходит или даже перескакивает в совершенно другое. В «Заколдованном месте» разозлившийся дед бранит дьявола, который над ним потешается: «А, шельмовский сатана! чтоб ты <…> еще маленьким издохнул, собачий сын!» Пожелание высказывается, так сказать, ретроактивно, словно оно имеет обратную силу. Вероятно, минувшее просто сосуществует рядом с настоящим – подобно тому, как, по наблюдению Лотмана, и здесь, и в других повестях «Вечеров…» бок о бок сосуществуют различные пространства – дневные и ночные, обычные и сказочно-игровые[128].
Посредством слухов похождения ковалевского носа уже по завершении основного сюжетного действия опрокидываются назад, в некую прафабулу, которая на годы предшествует «необыкновенно странному происшествию», запечатленному в повести:
Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы.
Повсеместно нагнетается у Гоголя череда или особая иерархия фикций, в своем суетливом противоборстве претендующих на истину. Это неисчерпаемое обилие мнимостей может просвечивать и позади нуля, гипотетически уходя в чисто отрицательный резерв реалий, которые заведомо не подлежат ни малейшей конкретизации. В «Ревизоре» слуга городничего Мишка спрашивает Осипа, не генерал ли его барин, а тот отвечает: «– Генерал, да только с другой стороны. – Что ж, это больше или меньше настоящего генерала? – Больше». Примеры столь же невообразимой, но при этом, так сказать, позитивной проекции за грань ничто мы находим и в эпизодически-бытовых мизансценах «Мертвых душ». В одной из них хронически растроганный Манилов с восторженным умилением заверяет Чичикова: «Вы всё имеете, даже еще более». Как было и в «Ревизоре», реплика, конечно, рассчитана автором на комический эффект – но в обоих случаях за ним таятся неразрешимые модальные парадоксы. Что это, собственно, значит, – более, чем всё? Мнимое достояние Чичикова, то есть нуль или почти нуль, соскальзывает в сферу, распахнутую для любых домыслов.
Нивелированно усредненный, внешне тоже как бы нулевой типаж самого героя именно в силу этой стертости набирает в сплетнях динамическую поливалентность, которая вовлекает его тщательно обезличенный образ в турбулентную зону мифических превращений, уводящих в некую подлинную «тайну». Метод переносится Гоголем и на лирические пассажи поэмы. Для этих колдовских метаморфоз пригоден почти нулевой повод, микрозаряд рутинного быта – и тогда убогая бричка преображается в грозную птицу тройку, взмывающую в сакральные эмпиреи национального духа, а почти безвидное в своей смиренном ландшафтном минимализме равнинно-нулевое пространство земной Руси размыкается неоглядной небесной утопией платоновского типа и, в пророческих чаяниях, столь же «бесконечной мыслью».
В «Мертвых душах» смешивается модальный статус наличного бытия, воплощенного в тех или иных преходящих особях, – и всего сообщества, которое именно как целое не может умереть. Сама гибель индивида подтверждает это бессмертие, – и возникает поразительная синхронизация обоих планов: «Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!» – заключает Чичиков по поводу одной из купленных душ. Перед нами вместе с тем именно тот «мертвый народ», что был упомянут им в споре с Собакевичем. В поэме представлена вся технология модальных метаморфоз и самой сотериологической дидактики Гоголя: возможное или всего лишь условно допустимое стремительно совершает экспансию в царство столь же иллюзорной действительности – в том числе во второй том книги и публицистику позднего Гоголя. Выдуманный Костанжогло обретет подлинную плоть в грядущей России, когда ее воскресит и преобразит сам автор.