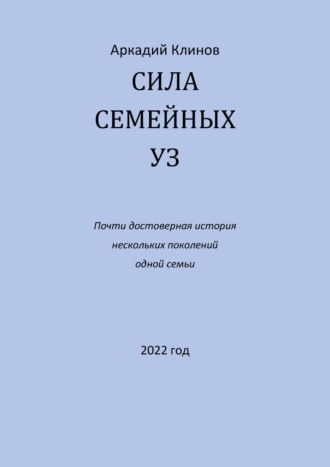
Полная версия
Сила семейных уз. Почти достоверная история нескольких поколений одной семьи
Когда мама познакомилась с Филиппом поближе, он рассказал, как попал в лагерь после катакомб и как, прибыв в лагерь, узнал, что румыны убили всю его семью: сестёр, маму, а также его жену и десятилетнего сына. С тех пор ему было всё равно, убьют его или нет, но он никого не боялся. Румыны это видели и даже относились к нему с каким-то уважением.
* * *К августу 1943 года наступил полный перелом в войне в нашу пользу. Гитлеровская военная машина стала получать один удар за другим. В лагере это тоже чувствовалось по тому, как здорово сникли румыны. Слухи доходили, что Красная армия гонит вовсю фрицев с ранее оккупированных территорий. Нервозность в лагере достигла апогея к декабрю. В лагере оставалось не более 500 человек, которых надо было уничтожить, чтобы не осталось никаких свидетелей. Накануне нового года Генри заявил Фане, что скоро уедет в Германию. Фаня была на девятом месяце беременности и Генри заявил ей, что принял решение выпустить её на волю, ибо она может погибнуть то ли от рук заключённых, то ли от солдат Красной армии. Но буквально в течение двух недель мама разродилась светловолосым голубоглазым мальчуганом, а ещё через пять дней Генри дал им возможность бежать из лагеря. Их сопровождал Филипп, которого немец выпустил вместе с ней.
Часть вторая
Я родился в марте 1945 года. То есть совсем незадолго до окончания Второй мировой войны. Появление моё на свет было зафиксировано в документе под названием «метрика». Документ этот в полстранички серо-голубой бумаги, который мне впервые довелось увидеть, когда мне исполнилось 16 лет, при получении паспорта, сообщал о том, что мои родители евреи. Это означало, что и я тоже еврей. Правда, узнал я об этом гораздо раньше. Когда пошёл в школу. Во второй класс. Мне тогда было семь лет. И вот однажды в нашей школе, где учились дети с 1 по 4 класс, произошёл инцидент, запомнившийся мне, как я теперь понимаю, на всю мою оставшуюся жизнь. По расписанию, в полдень, обычно после четырёх утренних классов, наступал 20-минутный перерыв, во время которого дети гурьбой выскакивали на школьный двор, чтобы дать волю сдерживаемой в классе энергии. И вот в одну из таких больших перемен, во время неопределённой и довольно хаотичной беготни по двору, неожиданно раздался чей-то по-мальчишески громкий командирский голос с режущими слух словами: «бей евреев». И тогда я увидел, как всё движение сразу неестественно прекратилось. Застывшие на мгновение дети, словно по мановению палочки, услышав команду, стали перебираться в разные места. Несколько секунд спустя я увидел, как чётко вырисовались две группы. Та, в которую попал я, оказалась совсем небольшой. Я бы сказал, значительно меньше той, что образовалась вокруг нас. Это была группа еврейских детей. Мы все почему-то сразу сбились в плотно сжатое испуганное ядро. А вокруг нас стояли грозные воинственные мальчишки. У некоторых в руках даже появились разные по величине камни. Правда, ничего ужасного, что вероятно могло произойти, не произошло. Зазвонил звонок, призывающий учеников вернуться в классы, и дети, как мне показалось, без особого энтузиазма стали двигаться в сторону здания. Но вот до семи о моей национальности мне никто не говорил. Ни злобно, ни по-дружески. Хотя я не берусь это утверждать. Возможно, запамятовал. Во всяком случае тот факт, что я еврей, в моей голове, прежде чем я стал 7-летним мальчиком, зарегистрирован не был. Ещё у меня был старший брат. Он был старше меня на год и три месяца. То есть он родился во время войны. Может именно поэтому у него метрики не было. Он тоже вначале не знал, что мы евреи. Тем более, что в семье на эту тему с нами не говорили. Да и помимо разговоров, в нашем доме никаких еврейских принадлежностей не было. Когда родители не хотели посвящать нас в свои взрослые разговоры, они чаще всего переходили на румынский язык, которым ни я, ни мой брат не владели. Память тех лет утверждает, что по-еврейски (на «идиш») родители говорили крайне редко. Причины такого редкого прибегания к этому распространённому среди простых евреев языку мне так до конца выяснить не удалось.
Глава I
Советский Союз в послевоенные годыВ памяти нашей самое раннее детство, к сожалению (а может быть, к счастью?), не остается. Мы обычно помним себя в возрасте более «солидном» – где-то после двух лет. До этого возраста мы не знаем, что существуем, то есть взрослые, которые нас окружают, знают, а мы – нет. Так же, как мы не знаем до пяти-шести лет, что смертны, если только за это время кто-то из наших близких не умер. Иными словами, если не даны никакие откровения свыше, скорее всего тебя ожидает безоблачное, беспечное детство. Потому что даже если ты рожден в бедной семье либо в семье строгих взглядов, детство берет свое, и ты, как правило, пытаешься быть счастливым.
Мое детство было именно таким. Кроме того, имело значение, что я был в семье вторым ребенком. Психологически младшие дети в семье отличаются от старших хотя бы потому, что старшие почти добровольно и сразу берут руководство в свои руки, даже если разница в возрасте незначительна. С первого дня своей сознательной жизни ты попадаешь в положение зависимости и несамостоятельности. И твой характер обрастает неизбежными атрибутами, такими как предъявляемые к тебе требования, ограничивающие твое поведение определенными рамками, заниженная мера ответственности за свои поступки, поверхностные анализ и логика, если они вообще присутствуют, и к тому же умение подчиняться и неумение руководить. Все это накладывает отпечаток на твое формирование. И в зависимости от того, насколько тебя подавляют и насколько крепок ты сам, будет проявляться твой истинный характер, постепенно видоизменяясь под воздействием сложившихся обстоятельств – у кого раньше, у кого-то позже, у кого-то, увы, никогда.
Итак, 1945 год для меня ознаменовался моим появлением на свет, а для всего советского народа – окончанием Великой отечественной войны. Надо сказать, что в госпитале, где я родился, спустя некоторое время разоблачили группу, пусть и совсем небольшую, профашистски настроенных националистов, сожалевших о вынужденных отступить немцах и еще питавших в то время смутные надежды, что отступление не вечно и немцы еще вернутся. Имея доступ к лекарствам и пациентам, они обладали возможностью умышленно вредить людям, попадавшим в госпиталь. Спустя несколько дней после моего рождения мама заметила, что я стал бледнеть и желтеть, и ей вскоре сообщили, что у меня развился сепсис и я навряд ли выживу, потому что госпиталь этот был совершенно не приспособлен для рождения и выхаживания детей. Мама плакала от отчаяния, но сделать ничего не могла, поскольку сама была пациенткой. В госпитале она подружилась с женщиной, у которой также родился ребенок, но несколькими днями раньше.
В тот знаменательный для меня день эта женщина – я так и не смог узнать ее имени – подошла к маме и сквозь слезы сказала, что ее сын только что умер, и тут же, перейдя на шепот, посоветовала: «Если хочешь спасти своего ребенка – беги отсюда. Детей травят специально, я об этом случайно узнала». Конечно, второй раз маму не надо было уговаривать – ночью, прокравшись в коридор со мной, завернутым в полотенце, она выскочила на улицу, успешно обойдя нескольких нянечек и охранника. Там, за оградой, ее ждал отец, и они «эвакуировали» меня из этой больницы.
Меня «откачали» всякими снадобьями и антибиотиками, которые маме удалось раздобыть как фармацевту, и единственным для меня последствием этого эпизода моей жизни остались тяжелейшие головные боли, которым никто тогда, да и много позже, не мог найти объяснения, и которые прекратились странным образом относительно недавно – благодаря лечению, не имевшему к головной боли прямого отношения.
Итак, меня вернули к жизни и постепенно в прямом смысле слова поставили на ноги. Жили мы тогда в большом многоквартирном доме на улице Белинского, на пятом этаже. В квартире нашей, как и во многих других, был балкон, и вот этот злополучный балкон и оказался последней каплей, заставившей моих родителей принять решение покинуть Одессу, чтобы впоследствии уехать за границу.
А случилось следующее. В тот роковой день дверь на балкон была приоткрыта, и мой старший брат Виктор, довольно рано научившийся передвигаться самостоятельно (в то время ему исполнилось уже 3 года), вышел потихоньку на балкон. Он преспокойно вскарабкался на стул, стоявший недалеко от чугунных решеток высотой больше метра, и, дотянувшись ручонками до верхнего края решетки, перевалился через нее…
Оказавшись за балконом, он пролетел всего один метр и каким-то чудом зацепился капюшоном своей домашней курточки за торчащий из дна балкона толстый крючок.
Мама, само собой разумеется, была на кухне. Однако, будучи хорошей еврейской мамой, время от времени проверяла, чем заняты ее дети. И когда она поняла, что старшего сына что-то давненько нигде не видно и не слышно, пошла взглянуть, где же ее первенец. Я, как всегда, что-то пытался смастерить или разобрать и смирненько сидел на полу в гостиной, совершенно не задумываясь о том, какие события разворачиваются вокруг меня.
Когда мама увидела, что дверь на балкон приоткрыта больше, чем обычно, она, побледнев от охватившего внезапно нехорошего предчувствия, вышла на балкон. Осмотревшись, скорее для очистки совести, она заглянула и за перила. И когда она увидела своего любимого сынишку, висящего за балконом и беспомощно размахивающего ручонками, однако мужественно не плачущего, ее ноги подкосились – и дикий крик, наверное, поднял на ноги всю округу.
Спустя мгновение она уже лежала на полу, схватив Витю обеими руками, просунутыми сквозь решетку балкона. Мама потом рассказывала, что не помнит, как поднимала его и одновременно поднималась сама. Помнит только, как, обливаясь слезами, упала на спину, прижав к груди этот хрупкий комочек жизни, непрерывно целуя его и бормоча что-то нечленораздельное. Мысленно представляя перед собой эту трогательную картину, в сотый раз осознаешь, что нет в мире существа преданнее матери, которая по-настоящему любит свое дитя. Итак, каждый из нас, чудом избежав смерти в столь юном возрасте, видимо, был отмечен знаком судьбы и благословлен на долгую жизнь.
* * *Приближался 1948 год…
В стране царил сумбур. Люди пытались как-то определиться. До благополучия было еще далеко, страна была огромная и совсем не монолитная, как ее считали за границей.
Первое, что сделал отец, оказавшись в городе, – пришел в НКГБ, в то время уже официально переименованный в МГБ, и, рассказав, что, как и почему все произошло, заявил, что хотел бы работать в отделе СМЕРШ, если это возможно. Чекисты не видели причин отказать добровольцу, пусть и неподготовленному, но имевшему перед родиной заслуги, и уже очень скоро он проявил незаурядные способности, необходимые для работы в этой организации.
Дедушка же решил действовать по-своему: он разыскал того дворника, который выдал их семью, и, затащив его в какую-то глухую подворотню, отрезал ему язык и уши. Так он отомстил за своих родных, погибших по вине этого подлеца.
Правда, на следующий день дедушку арестовали: кто-то сообщил в милицию. Но благодаря тому, что папа уже работал в СМЕРШ, ему удалось замять дело до того, как оно попало в прокуратуру, и дедушка оказался на свободе. Папа понимал, что все не так просто, и, хотя он сумел добиться освобождения деда, рано или поздно ему могли это припомнить. Поэтому спустя пять или шесть месяцев он подал рапорт об увольнении. Оставаться в Одессе, где за последние годы с ними произошло столько горестных событий, видимо, не хотелось ни маме, ни папе. Поэтому родители пришли к выводу, что в их ситуации будет лучше, если они безвозвратно покинут эти злополучные места. По обоюдному согласию они решили, что правильнее всего будет выехать в любой город, расположенный неподалеку от границы с одной из европейских стран, будь то Польша, Чехословакия, Венгрия или даже Румыния. Такое решение было навеяно создавшейся сразу после войны ситуацией, когда из страны выпускали людей, рождённых за пределами родины. Маме недолго пришлось уговаривать отца, что для них самый оптимальный вариант был бы покинуть Советский Союз, тем более что дедушка второй раз женился и не испытывал ни малейшего желания уезжать куда бы то ни было. На тот период дедушка казался относительно доволен тем, как складывалась его жизнь.
Папа же очень любил маму и готов был поехать ради нее куда угодно. К концу 1947 года они перебрались в город Станислав в Западной Украине, от которого было рукой подать в любую из ранее упомянутых стран. Однако к несчастью (именно в таких случаях понимаешь, что существует Судьба, которая ведет нас по жизни – зачастую независимо от того, предпринимаешь ли ты какие-либо действия или нет), границу по особому указанию Сталина закрыли и больше никого не выпускали.
В надежде, что со временем всё-таки закон смягчится – иногда бывало и такое – родители решили остаться в этом неизвестном для них городе. И потому что где-то надо было жить, расспросив сведущих людей, отец отыскал большой особняк, в котором когда-то до войны проживали богатые люди, сбежавшие с немцами. К тому времени в доме уже жило несколько семей, но еще оставалось не то семь, не то восемь не занятых комнат, куда и въехала наша семья, заплатив домоуправу небольшую сумму денег, чтобы всё выглядело по закону. Папа тут же организовал из этих комнат квартиру с кухней и ванной на уровне бель-этажа, с пятью спальнями. Именно к этому периоду времени относятся мои первые детские воспоминания. Сейчас, находясь в зрелом, почти преклонном возрасте, я окидываю мысленным взором прожитую жизнь и понимаю, что это были мои самые счастливые годы.
Город Станислав расположился в Западной части Украины, в преддверии Карпатских гор, обрамленный с севера рекой Днестр. С 1918 по 1939 этот город принадлежал Польскому воеводству, но в сентябре того же года город был занят Красной армией в связи с подписанием договора между СССР и Германией о разделе Польши. Когда Германия, нарушив договор, напала на страну Советов, городом полностью овладели немцы. После разгромной и убедительной победы Советских войск над Германией, город в 1944 году опять стал советским, войдя в состав УССР. До войны в нём наряду с поляками проживало множество евреев, однако после бесчинств гитлеровских оккупантов при освобождении города в нём оставалось не более 100 евреев.
Климат в этой части страны весьма благоприятный – с благоуханием цветов весной, умеренно жарким летом, в меру дождливой осенью и снежной, правда, ветренной зимой.
Наш дом, как я уже говорил, был очень большим, но его огромный двор просто поражал воображение своими размерами.
Во дворе росли многовековые деревья: клен, осины и даже дуб, было также несколько фруктовых деревьев – вишневых, яблоневых – и множество кустов сирени. Совсем рядом с домом росло огромное ореховое дерево, ветви которого касались крыши одного из флигелей и с которого мы каждую осень снимали урожай грецких орехов – из-за этих зеленоватых плодов пальцы наших рук во время «уборки урожая» всегда были желтовато-зеленого цвета. Мы охотно делились урожаем с соседями, которых к тому времени, когда мне исполнилось шесть лет, стало уже гораздо больше – то ли семь, то ли восемь семей. Причем одной из них была семья маминой родной младшей сестры Регины. Пройдя всю войну на передовой, после войны она приехала к маме, через ее знакомых познакомилась с выходцем из Белоруссии, вышла за него замуж, родила девочку, и они зажили бок о бок с нами, как я сейчас понимаю, получив от нас в подарок двухкомнатную квартиру с маленькой, переделанной из кладовки кухней. Таким образом, у нас осталось четыре комнаты.
Я рос очень подвижным и жизнерадостным ребенком, и не было, наверное, в то время спортивных игр, в которых мы с братом не принимали бы участия вместе с мальчишками из нашего и соседних дворов. Они любили собираться у нас, потому что нигде в округе не было двора таких необъятных размеров, дающих столько разнообразных возможностей для всяческих игр – начиная от «казаков-разбойников» и «трех мушкетеров», заканчивая футболом летом и гонками наперегонки на санках и коньках зимой.
У детей первых послевоенных лет детство было особенным. Родители были озабочены прежде всего тем, как стать на ноги, а мы в основном были предоставлены самим себе. Особенно мы любили играть в военные игры (ничего не поделаешь – реалии времени!) – с генеральскими штабами, немцами, партизанами, самодельными пистолетами, саблями и деревянными лошадками, сбитыми на скорую руку из подручного материала.
Я был в детстве довольно ловким и ничего не боялся, так как был искренне убежден, что жизнь – это навсегда. Поэтому в футболе я охотно становился в ворота вратарем и бесстрашно падал на очень жесткое, неприспособленное для игры в футбол поле, часто лазил по деревьям, забираясь на высоту 15–20 метров, перепрыгивал с ветки на ветку, возомнив себя Тарзаном, лихо «брал штурмом» довольно высокие заборы и в маске Зор о со шпагой в руках лазил по крышам, пытаясь оставить, где было возможно, знаменитый знак «Z». В мечтах я часто становился также партизаном и захватывал в плен фашистских генералов, а иногда – и самого Гитлера, пуская под откос вражеские эшелоны. А потом с достоинством принимал высокие награды Родины – внеочередные воинские звания, забираясь высоко по служебной лестнице.
Наш знаменитый двор заслуживает того, чтобы рассказать о нем чуть подробней. С двух сторон он был огорожен забором, а с третьей стороны примыкал к большому автопарку, забитому всякими машинами, иногда даже лимузинами, что в то время было исключительной редкостью. Гараж (так мы называли автопарк) мы считали чуть ли не своим – ввиду того что ворота его с улицы днем всегда были открыты и мы часто забегали туда и знали всех его дежурных. Однажды (мне было тогда лет пять), играя с мальчишками в своем дворе в очередную игру, мы вдруг увидели, как в наш двор вбежал молодой мужчина и, затравленно озираясь, быстро взобрался на дерево, а оттуда перепрыгнул на крышу, примыкающую к территории гаража, и стал лихорадочно бегать по ней, должно быть, раздумывая, спрыгнуть ли ему в начале гаража или в глубине. Да, кстати, должен сказать, что город наш в основном был расположен на холмах, похожих на маленькие горы, и гараж находился как бы на пологом склоне холма, а потому с одного края крыши расстояние до асфальта было не более трех метров, зато с другого – все пять.
Так вот, пока этот мужчина, бегая по крыше, приноравливался, где ему сподручнее спрыгнуть, во двор вбежал милиционер с пистолетом в руке и, быстро осмотревшись, отыскал того, кто от него убегал, и без всякого предупреждения стал в него стрелять. Можете себе представить, что стало твориться во дворе после двух-трех выстрелов. Мы, мальчишки, стояли, разинув рты от восторга, а наши мамы – те, кто был дома, – да и многие соседи повыскакивали из своих квартир и стали в один голос кричать, загоняя детей домой. И вдруг всё как-то сразу стихло и успокоилось. Убегавший, видно, отказался от мысли спрыгнуть в гараж и где-то затаился на крыше или спустился по водосточной трубе с противоположной стороны дома, а милиционер столь же стремительно выбежал со двора, как и влетел в него, и, скорее всего, продолжил погоню. Некоторые мальчишки – из других дворов – побежали вслед за милиционером посмотреть, чем же закончится преследование преступника. То, что мужчина на крыше был преступником, мы уже все поняли. Нас с братом мама загнала домой и больше в тот вечер не выпустила…
А через несколько дней произошло событие, которое навсегда врезалось в мою память. Дело в том, что за одним из заборов, ограждавших наш двор, находился химический завод, у стены которого всегда стояли большие жестяные бочки, на которые легко можно было спрыгивать с забора и по ним же забираться опять на забор, когда нужно было вернуться в наш двор.
…Ночью нас разбудил сильный стук в дверь. Кто-то из соседей стал кричать: «Пожар! Горим!» и когда отец открыл входную дверь, мы увидели в темноте за этим забором огромный столб буро-красного пламени, поднимающегося над химическим заводом. Отец, тут же сообразив, что горит содержимое бочек, приказал всем, кто в чем есть, бежать к окну и выпрыгивать на улицу. Как выяснилось позже, отец боялся, что огонь перекинется на гараж, начнут гореть машины, а в них – бензин, и тогда будет взрыв, после которого от нашего дома ничего не останется.
Я это плохо понимал, а мой брат почему-то стал заикаться и все спрашивал маму, сгорим ли мы, и при этом его сильно рвало. Приехало много пожарных машин и в ту же ночь пожар был потушен. А брат мой заикался еще несколько дней, и мама говорила соседям, что Витя очень нервный и чувствительный, так что не удивительно, что он воспринял это бедствие так близко к сердцу. Запечатлелся этот эпизод в моей памяти, как видите, на всю мою жизнь.
Вообще, мой брат в детстве очень плохо ел и был страшно худым. Накормить его было нелегко. Когда Витя в очередной раз «бастовал» – не хотел ни жевать, ни глотать пищу, забивая ее за щеки, мама, которая безумно любила своего первенца, брала припасенную для таких случаев высушенную куриную голову и клювом слегка постукивала по голове брата, приговаривая, что, если он не проглотит пищу, курица съест его. Этот странный, мягко говоря, метод обычно помогал, и брат нехотя проглатывал пищу.
Вообще с братом у меня связано немало ярких воспоминаний детства, и о некоторых я постараюсь рассказать.
Люди всё прибывали, и когда с жильем в городе стало совсем туго, один из приезжих додумался пристроить к забору, отделявшему наш двор от гаража, небольшую однокомнатную квартирку – если только это убогое сооружение можно было так назвать. Управление домами было не в состоянии ничего сделать. Люди, особенно одинокие, должны были где-то жить. И их в общем-то не трогали – так, для проформы приходили первое время, пугая «нелегалов» тем, что незаконные постройки, мол, скоро будут снесены, а их обитателям рано или поздно все равно придется искать другое место жительства. Поэтому им советовали «выехать по-хорошему, пока не поздно».
В одной из таких «квартир» поселилась немолодая одинокая женщина по имени Бася. Она относилась к нам, детям, вполне дружелюбно несмотря на то, что из-за наших шумных игр во дворе стоял постоянный гам.
И вот однажды мы, играя во дворе после короткого летнего дождя, стали лепить «лепешки» из грязи и бросать их друг в друга. Поначалу эта странная игра никому не сулила никаких неприятностей, кроме нагоняя от родителей за испачканную одежду. Но вот Витя, в очередной раз слепив «лепешку», предложил на спор бросить ее в дверь одной из недавно построенных «квартир». Ребята остановили игру и с интересом стали наблюдать за Витей, не сомневаясь в том, что он этого не сделает. Однако мой шестилетний братишка, чтобы доказать свою храбрость, прицелился и запустил увесистым комком грязи в дверь соседки Баси. И надо же было такому случиться, что Бася открыла дверь в тот самый момент, когда «лепешка» с силой летела в ее сторону. Не успела Бася понять, что происходит, как комок грязи угодил ей в лицо. Бедная женщина буквально взвыла от боли, обиды и, наверное, испуга. Мальчишки мгновенно разбежались, а возмущенная женщина стала кричать, что такого хулиганства она не потерпит и немедленно пойдет к Витиной маме, чтобы та забрала своего сына-бандита домой и наказала его по заслугам. Выполнить свою угрозу Бася, правда, не успела, так как на ее крик выскочила наша мама и, узнав, что случилось, извинилась перед женщиной, а нам велела немедленно зайти в дом.
Здесь, мне кажется, необходимо сделать небольшое отступление.
Мы, дети послевоенных лет, воспитывались в строгости. За различные провинности родители нас наказывали, иногда довольно сурово. Так что если представить себе на миг, что вдруг каким-то образом в те годы в Союзе ввели бы современные американские законы, то можете быть уверены в том, что 90 процентов родителей моментально оказались бы за решеткой – за применение по отношению к детям «мер физического воздействия». Я отнюдь не оправдываю тех родителей, которые действительно жестоко обращались со своими детьми – были, конечно, и такие, в том числе и мой отец. Но, по моему глубокому убеждению, родительские наказания не сделают ребенка ни преступником, ни садистом, ни насильником, как это принято считать в современной Америке. С теми, кому было на роду написано сбиться с пути, в итоге так и происходило – независимо от того, применяли их родители физические наказания или нет. Есть масса примеров того, как дети, воспитывавшиеся в семьях, где они даже грубого слова не слышали от родителей, вырастали и становились жестокими убийцами и маньяками. И еще больше примеров того, как дети, которых родители в свое время строго наказывали, становились вполне достойными членами общества, прекрасными семьянинами и относились с огромной любовью и уважением к своим родителям (которых, по американской логике, должны были люто ненавидеть).

