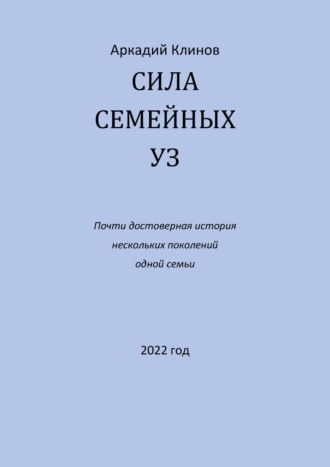
Полная версия
Сила семейных уз. Почти достоверная история нескольких поколений одной семьи
– Вам здесь будет нелегко, да и небезопасно. А мне одной будет без вас спокойней, – аргументировала свою позицию Фаня.
Ента, однако, не соглашалась, пытаясь убедить дочь, что ей может понадобиться помощь, которую лучше, чем родители, оказать никто не сможет. Отец, правда, как человек более рассудительный, пытался доказать дочке, что Фаине было бы лучше уехать с ними.
– Папа, ты что, не понимаешь, что я уехать просто так не могу. Никто мне этого не позволит. Кроме того, нас всех обещают эвакуировать, как только всех нуждающихся вывезут в глубь страны.
Разговоры подобного рода теперь возникали почти ежедневно, но пока что не приносили никаких результатов. Вдобавок, Бита вдруг проявила необычайное упрямство, что без дочери никуда не уедет. Переубедить её в этом было невозможно.
– Я не оставлю мою дочь в этом кошмаре одну, – постоянно твердила она.
В то же время с фронта каждый раз доносились слухи, от которых состояние и настроение вокруг становилось всё более напряжённым. Да и запланированный вывоз оборудования и людей не проходили гладко. Через две недели после начала эвакуации железнодорожное движение было остановлено, так как поезда несколько раз подверглись бомбёжке. Перевозить теперь всех было поручено торговому флоту, которому предстояло совершать рейсы в основном ночью для большей безопасности.
* * *Ситуация с образованием партизанских отрядов тоже оставляла желать лучшего. Прибывший в Одессу для создания подпольных и партизанских отрядов представитель особой группы НКВД В. А. Молодцов должен был действовать сообща с местными работниками госбезопасности, в то время возглавляемой лейтенантом В. А. Кузнецовым. Но по каким-то непонятным и, скорее, личным причинам совместной работы не получилось. В первую же организационную встречу между отрядами прибывших и одесситами началась разборка, кто главнее, окончившаяся элементарной дракой. В итоге Молодцов организовал свои три группы, две из которых в основном составили партизаны-добровольцы. Кузнецов создал тоже несколько своих, которые действовали независимо от действий москвичей. В распоряжении Молодцова также находилась отдельная спецгруппа, состоящая сугубо из чекистов, приехавших с ним. Задачи её были засекречены. Потому они были размещены отдельно от остальных, где-то в Куяльницкой части катакомб. И те и другие занимались разного рода деятельностью, начиная от наружного наблюдения за врагом на земле и кончая боевыми вылазками для совершения всевозможных террористических актов. Боевые действия обеих команд начались сразу после того, как румынские войска вошли в город, то есть 16 октября. Как и было правильно заранее рассчитано, румынские военнослужащие решили на первых порах использовать здание, в котором прежде располагалось НКВД. После тщательной проверки сапёрами Румынской 4-й армии, заявивших, что несколько оставленных мин «красными большевиками» обезврежены, все прибывшие офицерские чины румын стали занимать большие, удобные и оборудованные кабинеты. Замаскированное взрывное устройство в вырытой яме подвала и заложенное цементными плитами найти, как и рассчитывали советские контрразведчики, сапёрам не удалось. Капитан Молодцов, который буквально глаз не спускал за передвижением врага в незнакомом городе, по предварительному согласованию должен был сообщить в Крымский штаб армии день, когда по его данным в здании НКВД соберутся основные руководящие офицеры противника, что и было им сделано по установленной между ним и центром радиосвязи. Шифрованная радиограмма, посланная 22 октября, гласила: «Концерт на Марзлиевской начнётся 22-го в 17.30». В тот же день в указанное время был послан сигнал к заминированным приборам, тщательно спрятанным в яме, которую в своё время вырыли дед и отец. Взрыв произошёл в 6:30 вечера. По полученным от самих оккупантов данным, от взрыва погибло не меньше 70 румынских офицеров и солдат. Реакция румын была жестокой и совершенно непредвиденной. Ещё до этого взрыва, в первые дни захвата города, румынские войска начали с расстрелов как мирных жителей, так и схваченных военнопленных, не успевших уйти с регулярными войсками Красной армии. После взрыва, буквально за 2–3 дня, начиная с 23-го октября было убито, повешено и сожжено более 10,000 человек. В особенности пострадали те жители Маразлиевской, кто при облаве находились в своих квартирах. Почти всех расстреляли прямо на месте без всяких объяснений. На следующий день прибывшая немецкая айнзатцгруппа провела акцию по уничтожению в основном евреев, за несколько дней приблизившись тоже к цифре около 10,000. 24 октября евреям было приказано явиться в село Дальник, где их загнали в бараки, после чего эти бараки облили бензином и подожгли. Пытавшихся выбраться расстреливали из пулемётов прямо на месте. После этих бесчинств, в первые дни ноября был издан приказ всем евреям от 18 до 50 лет явиться в городскую тюрьму. Приказ касался только мужчин. В последующие дни была проведена регистрация всех евреев, проживающих в Одессе. Всех их заставили сделать жёлтый шестиконечный знак – звезду Давида, который евреи обязаны теперь были носить, чтобы власти видели, кто еврей. При этом евреями объявили всех тех, у кого в трёх поколениях кто-либо со стороны матери или отца значились евреи. Начиная с 7 ноября всё еврейское население стали отправлять в созданные румынами концлагеря как в Одесской области, так и в Транснистрии. Евреев отправляли пешком, и многие погибали по дороге. Те, кто доходили до места назначения, проживали по разным причинам ненамного дольше. Так, например, к началу декабря в лагере Богдановка, Доманёвского района Одесской области собралось около 54, 000 евреев. Их разместили кого в свинарнике, кого в бараках. Кто не поместился, остались под открытом небом, независимо, были то мужчины, женщины или старые люди и дети. Спустя несколько дней в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Чтобы прекратить распространение инфекции, в ночь на 18 декабря бараки, в которых находилось не меньше 2000 человек, по указанию коменданта лагеря, подожгли. Сгорели все, за исключением нескольких человек. После этого, начиная с 21 декабря по 24 начались массовые расстрелы, затем был сделан перерыв на три дня из-за Рождественских праздников. Но с 28 декабря по 10 января массовые расстрелы продолжились. К 15 января было убито 52 тысячи евреев, и ещё 2 тысячи погибло от голода и немощи.
В то же время королём Румынии Михаем I был издан приказ о прекращении массовых убийств людей еврейской национальности.
* * *Отец и дед оказались в группе Кузнецова. Выходили они на задания регулярно и как правило вместе. В одну из таких вылазок в конце декабря, отец предложил, что заскочит домой, посмотреть, как справляются их женщины. Дело в том, что и дед, и отец перед тем как уйти в катакомбы, посовещавшись с домашними, решили, что будет лучше, если все женщины переедут в квартиру деда. «Так всем будет спокойнее, а если понадобится, то они всегда смогут спуститься к ним в катакомбы». Но получилось совсем не так, как планировали. Вдобавок, их непосредственный командир наотрез отказался рассмотреть план прибавления женщин в отряд, как нереальный и даже опасный.
В ночь, когда отец незаметно ускользнул из группы, дедушка, прикрывая его, должен был в случае, если спросят, сказать, что отец вынужден был вернуться в катакомбы, так как у него заболел живот. Конечно, это было нарушением, но отец всё же решил рискнуть, так как для него было очень важным убедиться, что их семьи в порядке. Уже минут через двадцать отец пробрался к дому деда и, оказавшись перед окнами его квартиры, стал тихо настукивать условным знаком. Ответа не было, но минут через 5–7 боковая дверь на площадке открылась и соседка деда по имени Валя, узнав отца, стала знаками показывать, чтобы он вошёл к ней. После того, как муж её ушёл на фронт, в квартире оставалась только она. По отношению к дедушке и дедушкиной жены Ольги, она всегда проявляла внимание и была с ними очень дружна.
– Ваших больше здесь никого нет, – шёпотом произнесла она, пытаясь зажечь керосиновую лампу.
– Не зажигайте, – остановил её отец. – Сейчас это опасно. А где они? Что произошло?
Вопрос сначала повис в воздухе, потому что Валя обдумывала, как сказать отцу о произошедшем, но отец нетерпеливо торопил женщину:
– Ну, говорите же.
Валя вздохнула горестно и стала рассказывать, что произошло.
– Вы, наверное, слышали, что румыны после взрыва поуничтожали много ваших. Потом прибыла немецкая группа фашистов и принялась уничтожать в основном только евреев. А недавно был издан указ сообщать, где живут евреи. Ну вот наш дворник и привёл немцев сюда, в вашу квартиру. Всех ваших тут же и забрали.
Отец почувствовал, как начал дрожать, но совладав с собой, спросил:
– Вы знаете, куда?
Женщина не знала, но сказала, что догадывается, так как прошёл слух, что евреев вывозят в Одесскую область в район то ли Первомайска, то ли Николаева.
Отец возвращался на базу с тяжёлым сердцем, по дороге рисуя и тут же отбрасывая всяческие ужасы, влетавшие в голову. Оклик патрульного потому он сразу не услышал, а когда два автоматчика выросли перед его лицом, он понял, что влип по полной.
– Документы, – потребовал один из них, освещая лицо отца фонарём. Судя по форме солдат, отец понял, что патрульные румыны. Румынского он не знал, но слово документы хоть и с акцентом было русское, правда, это не меняло дела. Документов у него с собой никаких не было, хотя это нарушало условия, по которым партизаны выходили на поверхность из катакомб.
– Где живёшь? – спросил на ломаном русском тот же солдат.
Отец указал рукой в направлении откуда шёл. Патрульный подумал немного, потом сказал:
– Вы должен пройти с нами.
При этих словах он направил на отца автомат. Отец подумал, что, если сейчас он вступит с полицейскими в бой, его почти точно убьют, так как их двое и у них оружие. Один из полицейских схватил отца за руки и заставил завести их за спину. Затем его повернули спиной и повели в полицейский участок, где, как и следовало ожидать, тут же втолкнули в полутёмную комнатку, обнесенную со всех сторон решёткой. Сидеть было не на чём и отец остался стоять в ожидании дальнейших событий. Ждать, однако, пришлось недолго. Минут через 40 в участке появился человек в гражданской одежде, с белой повязкой на правом рукаве пиджака. По виду это был либо русский, либо скорее украинец, и когда он обратился к отцу, отец по акценту понял, что не ошибся.
– Иди за мной, – приказал он отцу, открывая решётчатую дверь.
Не глядя назад, он пошёл вперёд по коридору, остановившись перед дверью без всяких надписей. Провернув ключ, торчавший из замочной скважины, украинский полицай прошёл в комнату.
Войдя за ним, отец понял, что его привели в комнату допросов. Здесь стоял маленький металлический стол с настольной лампой, табуретка с одной стороны и стул с противоположной. На столе не было ничего, кроме стопки белой бумаги и нескольких карандашей рядом.
– Кто такой? Фамилия, имя, отчество, – без обиняков начал допрос украинец, усаживаясь на стул.
Отец назвал своё настоящее имя, фамилию.
– Национальность? – тут же последовал следующий вопрос.
Отец понял, что говорить правду нельзя. Его могут прикончить сразу на месте.
– Русский по отцу, украинец по матери, – не моргнув глазом, соврал он.
Полицейский, однако, не поверил и повторил вопрос, теперь уже с угрозой в голосе. Отец решил, что признаваться опасней, чем выдавать себя за своего.
– Ну, добре, – немного смягчился полицейский. – Почему без документов и что делал на улице в комендантский час?
Отец без заминки сказал, что вышел в надежде стрельнуть папироску, так как свои кончились, а курить захотелось невмоготу. Украинец вновь стал подозрителен.
– Ладно, посидишь в кутузке до утра. Там разберёмся.
Глава IV
Лагерь
Наутро первое впечатление было, что о нём забыли. Каждый занимался своим делом. Да и отец вёл себя тихо, чтобы не навлекать на себя излишнее внимание. Однако в полдень ему приказали выйти из комнатки, и полицейский дал ему понять, что отец должен следовать за ним. Его вывели во двор, где стоял грузовой фургон, и показали, что он должен в него забраться. Не зная, куда его повезут, он, однако, залез в кузов машины, где сидело уже несколько мужчин. Через несколько минут он узнал, что везут их на Слободку, в созданное там недавно еврейское гетто. «Значит, всё-таки приняли за еврея», – подумал отец и прикинул, что так даже лучше. Не надо будет больше притворяться и представляться украинцем или русским.
* * *Ввиду того что в городе стало совсем неспокойно, Моисей решил Биту больше одну за покупками не отпускать. В этот день они отправились на центральный рынок купить немного мяса и картошку, чтобы было, что есть на неделю. Они шли не торопясь, чтобы не привлекать внимание проходящих людей, мирно разговаривая. И хотя Моисей считал, что производит впечатление спокойного уверенного в себе человека, он раз от разу оглядывался назад, встревоженно глядел по сторонам. Когда они дошли до рынка, Моисей, как ему показалось, незаметно и с облегчением вздохнул. Здесь можно было затеряться среди людей, которых хоть и было не так уж много, но всё же больше, чем на улицах, по которым они только что проходили. Они пошли вдоль прилавков, с удовольствием отмечая, что несмотря на военное положение в городе, колхозники продолжают привозить свой товар, и люди приходят купить необходимое, хоть и в заметно меньшем количестве, чем это было до начала войны.
Внезапно все вокруг засуетились, люди стали быстро уходить в отходящие по бокам от главной улицы закоулки, кто-то выкрикнул, что началась облава на евреев и цыган.
– Ваши документы, – Моисей услышал за спиной приказ, отданный на румынском языке, так хорошо ему знакомом.
Моисей развернулся лицом к солдату, отвечая на румынском языке, что вышел с женой за картошкой и мясом и документы забыл дома.
– Jude? – не обращая внимание на объяснения Моисея, спросил с почти утвердительной интонацией солдат. Моисей понял, что отнекиваться бесполезно, и молча опустил голову. Солдат, больше не говоря ни слова, стал выталкивать Моисея и Биту за первый поворот. Здесь он поставил их спиной к стенке, не говоря ни слова, вскинул автомат к плечу, и дал короткую очередь по обоим. Первым осел Моисей, а за ним, слегка вскрикнув, Ента, уже не ощущая, как затылком ударилась о мощённую поверхность тротуара.
Солдат повесил автомат на плечо и, развернувшись, зашагал назад к рынку.
Фаня пришла домой с работы как обычно к 6 вечера и, не застав родителей, моментально поняла: случилось что-то из ряда вон выходящее. В ту ночь она уснуть не могла. Она попыталась поймать по радио хоть какие-то наводящие новости, но сводки были такие, как обычно, и ничего не говорило о том, что родители могли попасть в какую-то переделку. К утру она твёрдо знала, где надо искать. Ведь родители планировали сделать небольшие закупки продуктов на базаре. Фаня быстро собралась и выскочила на улицу. Через десять минут она почти на одном дыхании добежала до рынка. Улицы были пустынны. Комендантский час только закончился, и люди стали изредка появляться по одному то тут, то там. Фаня кинулась к первому прохожему, пытаясь узнать или мужчина не слышал что-либо необычное, что произошло вчера. Поначалу мужчина испуганно отпрянул в сторону, но увидя взволнованное лицо женщины, скороговоркой тихо сказал:
– Здесь вчера была облава на евреев. Люди говорят, были слышны выстрелы.
У Фани всё опустилось внутри. Задрожали колени. Она пыталась совладать с собой. Но это ей не удавалось. Мужчина, сжалившись над ней, сказал тихо, но уверенно.
– Идите домой. Здесь не безопасно. Убитых вчера забрала спецмашина и увезла куда-то, скорее всего на склады, куда свозят всех евреев. Идите домой.
Фаня шла домой не видя чётко дорогу. Глаза заволокли слёзы, а в голове стучала одна и та же мысль: «Как я могла. Как я могла». Последние недели были настолько полны событий, что она совершенно перестала думать об опасности, поджидающей её родителей. Почему она не настояла на их отъезде. Она же хорошо понимала, как не безопасно им всем здесь оставаться. Понятное дело, она не зависела от себя. У неё на работе все действовали по приказу. Но родителей это не касалось. «Им надо было уехать», – повторяла она про себя опять и опять, и тут же появилась бичующая мысль. «Сейчас об этом поздно думать». Её поведение и почти равнодушное спокойствие не имели никакого оправдания. Во всём виновата была только она сама.
* * *К концу декабря был издан новый приказ, принуждающий всех евреев в течение трёх дней выехать на постоянное место жительства на Слободку. В приказе указывалось, что лиц, уклоняющихся и пытающихся скрыться, неминуемо при поимке ждёт расстрел без всякого расследования. Всех местных жителей, включая дворников, обязали докладывать в местное домоуправление и полицейские участки о тех евреях, которые попытаются спрятаться и не захотят выполнять указанное предписание. В приказе также говорилось о том, что всё имущество, имеющееся у евреев, должно оставаться на местах, а ключи должны быть отданы в местное домоуправление.
2 января 1942 года все евреи, за исключением каких-то двух-трёх сотен всё же решившихся приказу не подчиниться, были перемещены на Слободку в созданное там для них гетто. Основными местами, в которые загоняли евреев, были бывшее общежитие Института водного транспорта и пустовавшая с начала войны суконная фабрика. Некоторым повезло и их расселили в частные дома. Тем не менее, всех, кто оказался либо в частных домах, либо тех, кто попал на фабрику или в общежитие, к концу февраля опять повыгоняли, на сей раз заставляя идти к железнодорожной станции Сортировочная. Здесь их ждали товарные вагоны, ранее перевозившие свиней, в которые их бесцеремонно позаталкивали при помощи прикладов ружей и автоматов, набивая каждый вагон до отказа, так что люди могли стоять только навытяжку, уткнувшись друг другу в спины. Переполненные поезда привозили людей в Березовку, а оттуда людей пешком гнали в приготовленные для евреев сельские лагеря смерти: Доманёвка, Ахмачетка, Богдановка и другие.
В начале марта попала на Слободку и моя мама. Кто-то из сотрудников больницы заявил в полицейский участок, что мама еврейка, и её тут же отправили на Слободку. К тому времени губернатор Транснистрии Алексяну по распоряжению румынского короля Михая уже успел издать приказ, отменяющий казни и массовые уничтожения евреев. На Слободке буквально за три недели до маминого прибытия открылась еврейская больница под руководством врача-румына. Маме повезло вдвойне и как провизору, окончившей фармацевтический институт в Бухаресте, и как человеку, свободно владеющему румынским языком. Её тут же взяли в больницу работать фармацевтом. Она изготовляла лекарства из того скудного материала, что ей удавалось выбить у администрации, и выдавала эти лекарства еврейским медсёстрам для лечения всех, кто попадал из гетто в больницу. Так она проработала до конца апреля. А потом её с группой медицинского персонала всё же отправили в концлагерь, в Богдановку.
Богдановка в мае 1942 года уже не считался лагерем смерти. Продолжающие прибывать евреи больше не подвергались тем садистским, обязательно со смертельным исходом истязаниям, которым подверглись их предшественники. Сыпной тиф, распространившийся в первые месяцы существования лагеря, удалось погасить, правда, благодаря злодейскому кровопролитию и расстрелам десятков тысяч людей. После приказа, отменяющего массовые убийства, евреев стали посылать на сельскохозяйственные работы. И хотя работать приходилось с утра до ночи, и люди также продолжали недоедать, и спали они как правило на земле, находясь в антисанитарных условиях, одно сознание, что их не расстреливают и не сжигают, давало толику надежды на возможное спасение, ожидавшее их впереди.
Мама понимала, что профессия её в лагере больше никому не нужна. Вместе с остальными женщинами она поднималась спозаранку и отправлялась в поле, работая, как и все с утра до ночи. Так продолжалось несколько месяцев, пока её однажды не вызвали в комендатуру и комендант, румын по происхождению, предложил ей работу с бумагами и документами, которые заводились на прибывающих узников. Знание нескольких языков и проживание в течение многих лет в Румынии до войны, сыграли основную роль в решении начальника лагеря. Но тем не менее мама поздно после работы возвращалась на ночлег в свой барак. И вот однажды, когда она занималась сортированием документов, к ней подошёл высокий симпатичный немец из охраны лагеря и приказал следовать за ним. Он провёл её в свой кабинет, и, закрыв за ней дверь на ключ, стал задавать ей вопросы, откуда она и где выучилась говорить по-немецки. Мама не знала, куда клонит немец, но отвечала всё, как было на самом деле. Немец слушал её внимательно, потом подошёл к сейфу и достал оттуда бутылку шнапса и два небольших фужера. От испуга и неожиданности Фаня сильно побледнела, а немец стал успокаивать её, приговаривая, что она не должна его бояться. Однако уговоры его не имели никакого воздействия. Фаня почувствовала, как стала бесконтрольно дрожать, содрогаясь всем телом. Немец улыбнулся. Налил в оба фужера шнапс и протянул один маме.
– Пей. Не бойся. Это хороший напиток. Сделай маленький глоток, если понравится, можно и второй. Его много пить не надо.
Он продолжал стоять с вытянутой рукой, и Фаня вынуждена была взять фужер.
То ли потому что немец видел непритворную паническую реакцию мамы, то ли по какой-то другой со стороны необъяснимой причине, но он не тронул маму и, открыв дверь, выпустил её, поцеловав на прощание в губы.
Вернувшись на своё рабочее место, мама не сразу пришла в себя, продолжая работать скорее машинально, чем осознанно. В голове у неё одновременно поднялся целый рой мыслей. Да, он был немец. Он был немец, имевший абсолютную власть над ней. Она могла сопротивляться и не допустить его к себе, и он мог взять её силой. Но он не сделал этого. И это смущало больше всего. И он, и все немцы и румыны показали, на что они способны. Они все звери. Румыны ещё большие звери, чем немцы. По крайней мере те, кто был в лагере. И в гетто. Они все ненавидят евреев. В эту ночь она спать не могла. Она понимала, что немец не оставит её в покое, пока не добьётся своего. Но даже если она уступит, что будет потом. На это она ответить не могла.
Через две недели немец вновь позвал её к себе в кабинет. И опять он не тронул её. Правда, на сей раз он угостил её бутербродами с сыром и домашней колбасой, видимо, продукты из села. Так продолжалось несколько месяцев. Фаня видела, что нравится немцу. Но она также понимала, что он ведёт с ней игру, пытаясь расположить к себе. Ей это говорило о том, что немец скорее всего не извращённый истязатель и даже не безжалостный садист. Но при любом раскладе он был чужой. Он был врагом, из тех, кто уничтожал её людей. И он мог сделать с ней всё, что пожелал бы. Она была бессильна хоть что-либо возразить ему. Она была просто узница, почти рабыня. А он был хозяин, её хозяин.
Они сошлись в ноябре. Так получилось, но она психологически уже была к этому готова. Она должна была выжить, пусть даже таким способом. К тому же он ни разу не проявил себя по-хамски и всё это время вёл себя по отношению к ней уважительно. Он даже высказывал время от времени, что в другое время они могли стать друзьями. При этом он совершенно уверенно говорил, что никогда не был антисемитом. Просто такие настали времена. И хотя Фаня была уверена, что у них не может быть продолжения, немец не забывал её, и время от времени их свидания повторялись. Фаня узнала, что немца звали Генри. Его предки были баварцами. Около полутора века назад они, по приглашению Екатерины II, приехали в Поволжье, но после Октябрьской революции были вынуждены переместиться в Украину, от греха подальше. Здесь они стали заниматься пивоварением. Благо в районном центре, где они жили, находился пивоваренный завод. Родители его недавно умерли, а так как семьи у него больше не было, когда началась война, он понял, что хотел бы вернуться на свою родину, в Германию. На фронт он идти не хотел. А здесь, в лагере, ему было почти хорошо. Он никого не истязал, никого не избивал. В худшем случае мог накричать и отправить заключённого в карцер. Фаня знала, что это правда. По крайней мере из того, что видела и знала о нём сама.
Время шло. Их отношения были ровными. Генри не показывал никаких признаков, что она ему надоела. Но в мае следующего года Фаня вдруг поняла, что забеременела. Это открытие испугало её по многим причинам. В первую очередь, она не представляла, как к этим новостям отнесётся Генри. Во-вторых, она не знала, как её беременность воспримут узники лагеря. Они и так относились к ней недоверчиво. Но узнав, что она беременна от немца, реакция людей может быть непредсказуемой, яростной, и потому опасной как для неё, так и для будущего ребёнка, которого она вынуждена вынашивать. То, что она связалась с немецким стражником, люди догадывались. И хотя Генри никого больше не наказывал, доверять и тем более быть расположенным к немцу было глупо. Когда она, краснея и смущаясь, на очередном свидании сообщила об этом Генри, его реакция была совершенно неожиданная. Он тут же спросил, нужна ли ей какая-либо помощь с лекарствами. Он также поинтересовался, или она не чувствует себя в опасности среди лагерных заключённых, и тут же заявил, что питаться она будет два раза в день у него в кабинете. А через несколько дней, когда она во время обеда вошла к нему в комнату, она увидела стоящего в дверях угрюмого мужчину из заключённых. Фане показалось, что она видела этого мужчину раньше. Он работал в бригаде заключённых, следящей за порядком в лагере. Был он в фуфайке и, переминаясь с ноги на ногу, держал в руках кепку. Генри представил мужчину Фане как её теперешнего телохранителя, который, как оказалось, говорил немного по-немецки, хотя и с сильным акцентом. Мужчину звали Филипп. Он работал в рабочей бригаде, так как был на вид физически сильным, а невзгоды и лишения лагерной жизни его, по-видимому, не сломили. Фаня была благодарна Генри за то, что он не бросил её и продолжал нести о ней заботу. Филипп обещал, что не даст Фаню в обиду и будет охранять её, так что в лагере никто не посмеет её тронуть.

