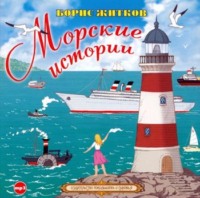Полная версия
Рассказы для детей

Борис Житков
Рассказы для детей
© Семенюк И. И., ил., 2022
© Цыганков И. А., ил., 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Что бывало

Белый домик
Мы жили на море, и у моего папы была хорошая лодка с парусами. Я отлично умел на ней ходить – и на веслах и под парусами. И все равно одного меня папа никогда в море не пускал. А мне было двенадцать лет.
Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два дня уезжает из дому, и мы затеяли уйти на шлюпке на ту сторону; а на той стороне залива стоял очень хорошенький домик: беленький, с красной крышей. А кругом домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. Наверно, живут добрые старик со старушкой. А Нина говорит, что непременно у них собачка и тоже добрая. А старики, наверное, простоквашу едят и нам обрадуются и простокваши дадут.
И вот мы стали копить хлеб и бутылки для воды. В море-то ведь вода соленая, а вдруг в пути пить захочется?
Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылки воды потихоньку от мамы. А то спросит: зачем? – и тогда все пропало.
Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в море. Я сидел как капитан, а Нина меня слушалась как матрос.
Ветер был легонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной выходило, будто мы на большом корабле, у нас есть запасы воды и пищи, и мы идем в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала меленько хлеба и откупорила бутылку с водой. Она все сидела на дне шлюпки, а тут, как встала, чтобы мне подать, да как глянула назад, на наш берег, она так закричала, что я даже вздрогнул:
– Ой, наш дом еле видно! – и хотела реветь.
Я сказал:
– Рева, зато старичков домик близко.
Она поглядела вперед и еще хуже закричала:
– И старичков домик далеко: нисколько мы не подъехали. А от нашего дома уехали!
Она стала реветь, а я назло стал есть хлеб как ни в чем не бывало. Она ревела, а я приговаривал:
– Хочешь назад, прыгай за борт и плыви домой; а я иду к старичкам.
Потом она попила из бутылки и заснула. А я все сижу у руля, и ветер не меняется и дует ровно. Шлюпка идет гладко, и за кормой вода журчит. Солнце уже высоко стояло.
И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу и домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нинка проснется да глянет – вот обрадуется! Я глядел, где там собачка. Но ни собачки, ни старичков видно не было.
Вдруг шлюпка споткнулась, стала и наклонилась набок. Я скорей опустил парус, чтобы совсем не опрокинуться. Нина вскочила. Спросонья она не знала, где она, и глядела, вытаращив глаза. Я сказал:
– В песок ткнулись. Сели на мель. Сейчас я спихну. А вон домик.
Но она и домику не обрадовалась, а еще больше испугалась. Я разделся, прыгнул в воду и стал спихивать.
Я выбился из сил, но шлюпка ни с места. Я ее клонил то на один, то на другой борт. Я спустил паруса, но ничто не помогло.
Нина стала кричать, чтобы старичок нам помог. Но было далеко, и никто не выходил. Я велел Нинке выпрыгнуть, но и это не облегчило шлюпку: шлюпка прочно вкопалась в песок. Я пробовал пойти вброд к берегу. Но во все стороны было глубоко, куда ни сунься. И никуда нельзя было уйти. И так далеко, что и доплыть нельзя.
А из домика никто не выходил. Я поел хлеба, запил водой и с Ниной не говорил. А она плакала и приговаривала:
– Вот завез, теперь нас здесь никто не найдет. Посадил на мель среди моря. Капитан! Мама с ума сойдет. Вот увидишь. Мама мне так и говорила: «Если с вами что, я с ума сойду».
А я молчал. Ветер совсем затих. Я взял и заснул.
Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в самый нос, под скамейку. Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась легко и свободно. Я нарочно качнул ее сильней. Шлюпка на свободе. Вот я обрадовался! Ура! Мы снялись с мели. Это ветер переменился, нагнал воды, шлюпку подняло, и она сошла с мели.
Я огляделся. Вдали блестели огоньки – много-много. Это на нашем берегу: крохотные, как искорки. Я бросился поднимать паруса. Нина вскочила и думала сначала, что я с ума сошел. Но я ничего не сказал. А когда уже направил шлюпку на огоньки, сказал ей:
– Что, рева? Вот и домой идем. А реветь нечего.
Мы всю ночь шли. Под утро ветер перестал. Но мы были уже под берегом. Мы на веслах догреблись до дому. Мама и сердилась и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила.
А потом мы узнали, что в том домике уже целый год никто не живет.
Храбрость
Я о ней много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть храбрым: все уважают, а другие и боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что коленки трясутся и, кажется, лучше б лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной правды предано из-за трусости: «Не хватило воздуху сказать!»
И я знал, что по-французски «трус» и «подлец» – одно слово – «ляш». И верно, думал я: трусость приводит к подлости.
Я заметил, что боюсь высоты. До того боюсь, что если лежу на перилах балкона на шестом этаже, то чувствую, как за спиной так и дует холодом пустота. Просто слышу, как звенит, проклятая, холодом своим. И говорю тогда невпопад: оглушает сзади пустота.
Я раз видел, как на подвеске красил купол кровельщик. Метров сорок высоты, а он на дощечке, вроде детских качелей. Мажет, как будто на панели стоит, еще закурил, папироску скручивает. Вот я позавидовал! Да если б меня туда… я вцепился б, как клещ, в веревки или уж прямо бросился бы вниз, чтоб разом покончить со страхом: это самое больное, самое непереносимое чувство. Я выследил этого храбреца и вечером пошел за ним. Он пошел прямо на реку. Стал раздеваться. Я рядом. Я, при таком храбреце, пробежал по мосткам до самого краю и с разбегу бух головой: глубоко там, не ударишься. Выплыл. Смотрю: мой кровельщик стоит по пояс в воде и плещет на себя, приседает, как баба. Я ему:
– Дяденька, иди сюда, здесь водица свежей.
А он:
– Ишь прыткий какой. Тама, гляди, утонуть можно.
– Да тут тебе по шею.
– Ладно! Не ровен час, колдобина али омут какой. Ну тебя к лешему! Не мани.
– А как же выси-то не боишься?
– По привычке.
А поначалу сказал, что страховито было.
Я решил, что приучу себя к высоте. И стал нарочно лазить туда, где мне казалось страшно.
«Но ведь не одна высота, – думал я. – А вот в огонь полезть. В пожар. Или на зверя. На разбойника. На войне. В штыки, например».
Я думал: вот лев – ничего не боится. Вот здорово. Это характер. А чего ему бояться, коли он сильней всех? Я на таракана тоже без топора иду. А потом прочел у Брема, что он сытого льва камнем спугнул: бросил камнем, а тот, поджавши хвост, как собака, удрал. Где же характер?
Потом я думал про черкесов. Вот черкес – этот прямо на целое войско один с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит:
– А спрыгнет твой черкес с пятого этажа?
– Дурак он прыгать, – говорю.
– А чего же он не дурак на полк один идти?
Я задумался. Верно: если б он зря не боялся, то сказать ему: а ну-ка, не боишься в голову из пистолета стрелять? Он бац! И готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было. С горы в пропасть прыгали бы, как блохи, и палили бы себе в башку из чего попало. Если им смерть нипочем. Ясное дело: совсем не нипочем, и небось как лечатся, когда заболеют или ранены. Зря на смерть не идут.
Вот про это «зря» я увидал целую картину.
Дело было так. Был 1905 год. Был еврейский погром. Хулиганье под охраной войск убивало и издевалось над евреями как хотело. Да и над всяким, кто совался против. И образовался «Союз русского народа»… казенные погромщики, им даны были значки и воля: во имя царя-отечества наводить страх и трепет. В союз этот собралась всякая сволочь. А чуть что – на помощь выезжала казачья сотня, на конях, с винтовками, с шашками, с нагайками. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в семь хотя бы вечера и видишь: идет по тротуару строем душ двадцать парней в желтых рубахах. Кто не понравился – остановили, избили до полусмерти и дальше. Дружина «Союза русского народа».
В это время как раз приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал, только: неужто струшу? И сказал: «Идет»… Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут, – ой-ой! Если не расстрел, то каторга наверняка. Уговорились где, когда. «И Левка будет». А Левку я знал. И удивился: Левка был известен как трус. Его называли Левка-жид, и он боялся по доске канаву перейти. Воин! Однако часов в пять вечера все оказались в сборе. И Левка. Место было то, с которого начинала орудовать дружина. Нас было семеро. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела: еврейский квартал. Дружина идет строем. Мы стоим, прижавшись к домам. Нас не видно.
У меня сердце работало во всю мочь: что-то будет? Чем бы ни кончилось, все равно замечен, и потом… Все равно найдут. Стрельба на улицах… Военный суд. Виселица.
Вдруг один из дружинников поднял камень – трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило – открывай огонь. Наши стали палить. Мой выстрел был седьмым. Но я думал, что есть еще утек: есть возможность замести следы. Дружина шарахнулась. Их начальник что-то крикнул, все стали на колено и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит шагов на пять и снова. Он подбегал все ближе с каждым выстрелом, и вдруг все наши выскочили на мостовую, и в тот же миг дружина вскочила на ноги и бросилась за угол. Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног.
Дружина постреливала из-за угла. Через пять минут уже взвод казаков дробно скакал по мостовой. Дал с коней залп. Левку держали, чтоб он не бросился на казаков. А я только со всей силой удерживал ноги на панели, чтоб не понесли назад. А грудь – как железная решетка, через которую дует ледяной ветер.
Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. Не знаю, много ли стрелял я.
Я сразу не пошел домой, чтоб запутать следы, наплести петель. А Левку едва вытолкали с улицы, он плакал и рвался.
Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лез не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух.
У меня был товарищ – шофер. К нему подошли двое ночью, и он снял свою меховую тужурку и сапоги и раздетый прибежал домой зайчиком по морозу.
Его мобилизовали. И через два месяца я узнал: летел на мотоцикле с донесением в соседнюю часть. Не довезет – тех окружат, отрежут. По пути из лесу стрельба. Пробивают ноги – поддал газу. Пробивают бак с бензином. Заткнул на ходу платком, пальцем, правил одной рукой и пер, пер – и больше думал о бензине, чем о крови, что текла из ноги; поспеть бы довезти. А чего проще: стать. Взяли бы в плен, перевязали, отправили в госпиталь. Да, не меховым бушлатиком подперт на этот раз был дух.
Или вот вам случай с моим приятелем капитаном Ерохиным. Ему дали груз бертолетовой соли в бочонках из Англии в Архангельск. При выгрузке у пристани от удара эта соль воспламенилась в трюме. Бертолетова соль выделяет кислород – это раз, так что поддает силы пожару. А второе – она взрывается. Получше пороха. И ею полон трюм. Ахнет – и от парохода одни черепки. Он взорвется, как граната. Через минуту пламя уже стояло из трюма выше мачт. У всей команды натуральное движение – на берег и бегом без оглядки от этого плавучего снаряда. И тут голос капитана: «Заливай!» И капитан стал красней огня и громче пламени. И никто не ушел. Не сошла машинная команда со своих мест, и дали воду, дали шланги в трюм, и люди работали обезьяньей хваткой. А берег опустел: все знали – рванет судно, на берегу тоже не поздоровится. И залили. Через полчаса приехала пожарная команда. Не пустил ее Ерохин: после драки кулаками не машут.
На что его дух опирался?
Да ведь каждый капитан, приняв судно, чувствует, что в нем, в этом судне, его честь и жизнь. Недаром говорят: Борис Иваныч идет, когда видят пароход, капитан которого – Борис Иванович. И в капитане это крепко завинчено, и всякий моряк это знает, как только вступает на судно: капитан и судно – одно. И горел не пароход, сам Ерохин горел. Этим чувством и был подперт его дух.

А то ведь говорили: как осторожно Ерохин ходит. Чуть карте не верит – прямо торцом в море и в обход. Не трусоват ли? Но поставьте тех, кто так говорил, командовать судном: думаю, и они не ушли бы с пожара и они бы не проверяли неверные карты своим килем.
Но вы скажете: «Что большие дела – война да море. А вот на улице…»
Да, на улице, на каждой почти улице есть свой «Иван». Был и в нашем переулке такой клевый парень, кому все не под шапку. Никому не уважит. Лезет хоть на кого. Просто, скажете, смелый – и все тут. Нет, не все. Для него вся жизнь в этой улице, тут его положение держится кулаком. Отступил – пропал. Хоть за ворота завтра не выходи. И когда его подуськивали затронуть здорового прохожего – как ему отказаться? Ага! Полез в бутылку! Слабо́! И все его положение – героя и «Ивана» – повисло на волоске. И он уж кричит через дорогу:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.