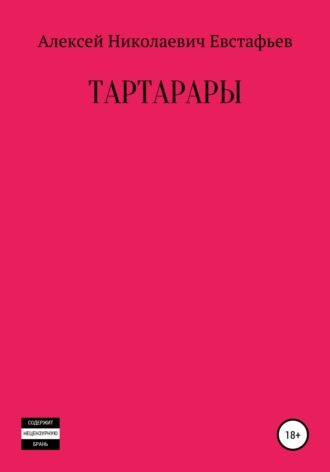
Полная версия
Тартарары
Отряхнувшись и выждав, когда угомонится боль в предплечье, Евпсихий Алексеевич осмотрелся по сторонам, соображая, что теперь ему делать и кого здесь стоит опасаться. Поначалу его очень напугало отчётливо слышимое муторное дыхание, пытающиеся подавить все прочие звуки, пока Евпсихий Алексеевич не сообразил, что это его собственное дыхание, просто к нему нужно привыкнуть. Его окружало слегка кривоватое пространство, совершенно безлюдное и удручающе тяжеловесное, но не способное пребывать в состоянии покоя даже несколько секунд – оно непрестанно вздрагивало, расплывалось и смазывалось во всеразличных кусочках, клочках и точках, настойчиво привлекало к себе что-то чужеродное и затем изгоняло его, увлёкшись иными причудливыми экстрактами. Облезлые шафранные сумерки покрывали Тартарары, словно неумело разрисованные дрянной дешёвой краской, а мертвенно-бледную небесную твердь лениво буравили косматые огненные всполохи. Кажется, из-под земли доносились отдалённый ропотный гул и звяканье цепей, сквозь узкие неприметные скважины прорывались костлявые змейки молний, бились в конвульсиях и вырисовывали переплетёнными трещинами на засохшей земле то ли слова, выкраденные из неизвестных языков, то ли демонические аллегории.
Евпсихий Алексеевич видел перед собой единственное уныло-торжественное здание, напоминающее полуразвалившийся провинциальный театрик с вычурными гипсовыми колоннами у входа, украшенными любопытными психеями и ангелочками, с витражными окнами, неумело забитыми досками, и массивной дверью, заманчиво приоткрытой чуть более чем на четверть. На крыше здания имелся нахлобученный, словно бы наобум, огромный дырявый купол, подозрительно блещущий тёмным серебром и выгравированными буковками, что, словно развязанные узелки арабской вязи, выстраивались в надпись «КАЖДОМУ – СВОЁ». Евпсихий Алексеевич сообразил, что здесь ему больше некуда податься, отворил дверь в театр пошире – для чего ему пришлось изрядно поднатужиться – и протиснулся во внутрь. Фойе почему-то отсутствовало, а имелось тесноватое помещение гардероба, совмещённого с буфетом, при выходе из которого сразу начинался просторный зрительный зал, возведённый высоким кичливым амфитеатром, и бестолково освещённый тремя скукоженными люстрами. Впрочем, вычурная роскошь театра осталась в далёком прошлом, а сейчас, благодаря ободранным креслам, залежам нетронутой пыли и запаху простуженной оркестровой ямы, зрительный зал вызывал у Евпсихия Алексеевича ощущения брезгливые и тягостные. Пол был по щиколотку завален хламом из аляповатых декораций, лоскутьев тяжёлых бальных платьев и пёстрых сказочных костюмов, обрывков незатейливых афиш, бутылок, пластиковых стаканов и объедков из театрального буфета. Саму сцену интригующе-плотно прикрывал занавес, впрочем, дозволив красоваться посерёдке суфлёрской будке, чем она и превосходно воспользовалась, демонстрируя из себя квинтэссенцию творческой невинности. Публики в зале не было и в помине, и только в директорской ложе сидел некий взлохмаченный человечек, явно ненавидящий всё происходящее вокруг, но пробующий смириться со своей участью.
– Евпсихий Алексеевич! – воскликнул он, обращаясь к нашему герою с помпезным умилением. – Вот и вы к нам припожаловали, вот и вас не миновала чаша сия – как могли бы горестно заметить поэты, невольники-то чести. Не сомневаюсь, что вы были человеком праведной жизни, и надолго у нас не задержитесь, а я вот попал в это проклятое логово – теперь и не ведаю, как выпутаться!.. – человечек помахал обгорелой театральной программкой, затем свернул её в свиток и пару раз шарахнул по перилам ложи. – Застрял в нумерологических лабиринтах, не могу разгадать, что тут за казуистику показывают мне доморощенные актёришки. Пятый год маюсь.
– Позвольте, откуда же вы меня знаете?
– Да ещё бы не знать. Вы проходили свидетелем по делу о массовой драке у стоматологической поликлиники, а я как раз следователь Крокодилов, что вёл это дело, и вас допрашивал. Ну, да куда вам меня запомнить, вы пришли и ушли, а я вот запоминаю почти всех своих подопечных. Иного встретишь случайно на улице или в каком-нибудь учреждении – вот как вас сейчас, например – и хочется заново его за решётку упечь или хотя бы допросить хорошенько, чтоб он содержал себя в состоянии изумления и обуздания. Всякий нормальный человек должен так существовать, чтоб и помыслить не мог о возможности нарушить закон. Впрочем, что сейчас о прошлом толковать, прошлого не воротишь, а вот взгляните-ка на сцену, Евпсихий Алексеевич, сейчас представление начнётся. Пятый год смотрю, в день по пять сеансов с антрактом. Не желаете ли выпить? – у меня тут большие запасы.
– Нет, простите.
– Как хотите, Евпсихий Алексеевич. – следователь Крокодилов строго прищурился, показывая, что отчасти обиделся на отказ гостя выпить с ним, но с привычным безнадёжным азартом выдул из горла полбутылки. – Глупое тщеславие привело меня сюда, думал, что всё на свете знаю, всё мной разгадано и перегадано до малейших подробностей, а тут влип. Только представьте себе: истекаю я кровью, в результате полученных травм, ожидаю смерти и блаженства безгрешности, а оказываюсь в этом мерзопакостном местечке и выслушиваю претензию, что дело Анны Ильиничны Зарницкой не распутано, а значит я не выполнил свой земной долг до конца.
– Дело Анны Ильиничны??
«Это получается тот самый следователь, что занимался расследованием моего исчезновения.» – Евпсихий Алексеевич услышал в голове голос Анны Ильиничны и приободрился.
– Так выходит, что это вы не довели дело Анны Ильиничны до конца, и теперь вынуждены обживать Тартарары? – не сдержал ехидной улыбки Евпсихий Алексеевич.
– Ну да, так и есть, можете смяться, сколько вам влезет. – с пьяной усталостью махнул рукой следователь. – Хотел на собственном лбу выцарапать гвоздём «дурак ты – Крокодилов», да смысла нет – некому читать. Гостей тут почти не бывает, а начальство с проверками заходит редко. Тут и без начальства полно причин, чтоб стыдиться, стесняться и потихоньку бздеть.
– Собственно говоря, я не совсем погостить сюда зашёл, у меня тоже своё дело имеется. Вот вы насчёт Анны Ильиничны Зарницкой выразились, а если я попрошу подробностей?
– Да, извольте, могу и подробностей, да что с того толку. Девка молодая была, пропала без вести, сгинула прямо во время весёлой гулянки, которую организовала компания безмозглых парней. Как сквозь землю провалилась. Сколько я их не допрашивал: никто ничего не знает и не понимает, как такое могло случиться. Оно, конечно, пьяное состояние ухудшает тактико-технические характеристики наблюдательности, но чтоб сразу не заметить исчезновения единственной подруги и не переполошиться – в это мне верилось с трудом. Ну, думаю, устроили ей групповой шпэхен-трэхен, а затем побоялись ответственности, укокошили девку и труп припрятали – вся фактурность преступления, казалось бы, лежит на поверхности, но, однако, никаких улик не обнаруживалось. Нет трупа – нет доказательства чьей-либо вины.
– А хорошенько ли обыскали окрестности?.. Кстати, где находится эта самая дача, куда парни завезли девушку?..
– Дача где-то за посёлком силикатного завода – да там чёрт ногу сломает, замучаешься обыскивать. Ты думаешь, Евпсихий, что мне было наплевать на девушку, что ежедневная рутина воспитала во мне безразличие к людским судьбам?.. И ты отчасти прав, Евпсихий, но поставь себя на моё место: сотрудников для проведения розыскных работ не хватало, материальных средств не имелось вообще, прокурор требовал не заниматься ерундой, уверяя, что девка уехала к жениху в Серпухов и теперь живёт там при совершенном удовольствии, наплевав на отца с матерью. Безбашенная молодость, дескать, трампапусики и всё такое.
«Не было у меня жениха в Серпухове.» – заныл голос Анны Ильиничны.
– А мне какой резон с прокурором ссориться, если – в целом – он человек не плохой и отчасти полезный?.. – вздохнул следователь Крокодилов. – А вот резона-то и нет.
Но вдруг в театре три раза истошно прозвенело, собирая отсутствующих зрителей на представление, распахнулся багрово-бархатный занавес, местами почерневший от копоти, и на сцену выскочил конферансье с повадками манерного официанта, зудливо почёсывающего рожки, игриво выглядывающие из-под прилизанных неестественно рыжих волос.
– Дамы и господа! – воскликнул конферансье, обращаясь в пустой зал, не замечая ложи со следователем и Евпсихием Алексеевичем. – Артист, что готовится выступить перед вами, известен всем и почитаем по заслугам. Одни знатоки театрального искусства называют его сразу по имени, пытаясь быть запанибрата, а другие вычисляют из его имени сразу семь имён, зашифрованных ещё в библейские времена, и получают число 666. Да вот, пожалуйста, я назову и имена эти, негоже их скрывать: Evantas, Damnatus, Antemus, Gensericus, Antichristus, Teitan и Die-Lux. Друзья, поприветствуйте артиста аплодисментами, он обожает своего зрителя.
На сцену выбрался, слегка усталой и пренебрежительной походкой, весьма важного вида бесёнок в военном френче, с пышными усами, угрюмым тупым взглядом, шарящим по самым отдалённым уголкам зрительного зала, и с трубкой в зубах.
– Почему музычка не лялялякает? – сурово спросил он у конферансье, и тот затараторил извиняющимся тоном, не допускающим возражений, что ему намекали всякие доброжелательные товарищи о попытках вредительства в театре, но любые акты диверсий будут им пресекаться строго по закону.
– Теряете авторитет, милейший. – прицельно прищурился бесёнок на конферансье.
– Сейчас всё будет, минуточку! – и конферансье, всматриваясь в тишину оркестровой ямы, затейливо зарычал.
– А если мне голову отрубили по статье за разжигание межрелигиозной розни, то чем я буду в трубу дуть? – послышался негодующий вопль из оркестровой ямы. – Я буду на вас жаловаться в вышестоящие инстанции.
– Вы нам тут психотропный ГУЛАГ не устраивайте. – категорично афишировал свой кулак конферансье. – Дуйте хоть задом, но чтоб музыка была – вам за это вознаграждение выписывают и молоко за вредность.
Оркестровая яма уязвлённо зашушукалась, но, кажется, кроме безголового трубача, поддерживать мятеж никому из музыкантов не хотелось. Конферансье отошёл за кулисы, где превратился в изваяние скорби, а глуховатая, плохо выспавшаяся скрипка сдержанно затянула вступление к песне.
– Мягко стелют да жёстко спать… – забормотал речитативом с усладительным кавказским акцентом бесёнок. – Бесконечно-подлый трындёжь про гуманизм, ибо больше нечего рабам отдать в двенадцатичасовой рабочий механизм…
Раздолбанное фортепьяно экономно дребезжало, нагнетая покорную тревогу в сердцах слушателей, и лишь короткими взрывами минорных аккордов акцентировало переходы со строчки на строчку этого мрачноватого пения. Из оркестровой ямы выглядывал хулиганистого вида бесёнок-шишига и делал вид, что дирижирует. Обман шишиги раскрылся очень скоро, поскольку дирижировать ему было нечем: оркестр представительно молчал, следуя предписаниям партитуры, а церемониальные каверзы фортепьяно сопровождали лишь чирикающие каракули флейты и та самая труба безголового трубача, иронично подхихикивающая в терцию.
– Халтура! – поморщился следователь Крокодилов.
«Расспросите его о последовательности событий в тот злополучный день. – потребовал голос Анны Ильиничны в голове у Евпсихия Алексеевича. – Наверняка он неоднократно допрашивал подозреваемых и запросто мог уцепиться за какую-нибудь мелочь, способную определить, где чушь несусветная, а где частичная действительность.»
Бесёнок в военном френче закончил пение, прочертив пыхающей трубкой вокруг своей головы что-то вроде нимба, и покинул сцену. Его тут же сменила парочка вертлявых скелетов с подборкой юмористических миниатюр. Как не странно, шутки в основном были не плохи, но однообразны и сводились к незадачливым ночным посетителям кладбища. Например, был показан пьяный мужичок, что упал ночью в свежевыкопанную могилу, где отоспался, а утром побрёл домой. И только у ворот его догнал кладбищенский сторож, со всей мочи треснул лопатой по балде и крикнул: «Вылез погулять – так гуляй, но за территорию – ни ногой!!» Оркестр сыграл туш.
– Экий дурень. – усмехнулся следователь Крокодилов. – Теперь может загреметь по статье о нанесение тяжких телесных повреждений. Страшное дело.
– А скажите-ка, любезный. – отвлёкся от сценического действа Евпсихий Алексеевич. – Насколько тонка психологическая грань, отделяющая следователя от преступника?.. Ведь измышляя способ, которым было совершенно преступление, следователь вовлекается в тот же самый криминальный механизм, что овладевает головой преступника. Разве нет?
– Тут разница в причинно-следственной связи. Я могу придумать преступление, могу придать ему идеально-нераскрываемую форму, но не придумаю достаточного довода, чтоб его совершить.
– Не из боязни? – улыбнулся Евпсихий Алексеевич.
– Отчасти. Но и преступник тоже боится совершаемых деяний и последствий этих деяний, я вообще не верю в бесстрашных людей. Если любой человеческий подвиг ухватить за ниточку, характеризирующую личностные мотивы, то противоположный её конец отыщется в недрах либо обыкновенной глупости, либо жуткого отчаяния.
(«Как это ты собрался меня сожрать? – спрашивает скелет, играющий роль приблудившегося на кладбище мальчонки, у скелета-покойника. – Как ты вообще можешь любить сырое мясо?.. У тебя же нет органов пищеварения, и проглоченные куски прямиком вываливаются из задницы!» – «Так вот и люблю. – отшучивается покойник. – Зато экономлю на лекарстве от глистов.»)
– Мда. – следователь развернул программку, потыкал пальцем в чью-то фамилию, отвечающую за авторство шуток, и вздохнул. – Вроде бы и смешно, а ничего не понимаю. Зачем мне всё это выслушивать по сто раз за день, к чему всё это меня приведёт? – не понимаю!!
Могильным ознобом повеяло со сцены, на несколько секунд черепушки скелетов исказились жесточайшими гримасами, повелевающими всеми ужасами бесконечности, но конферансье дал отмашку на продолжение концерта.
– Для чего мне нужно было жить на свете, если всё закончилось именно так глупо?? – прошептал следователь.
Затем он допил из бутылки вино, сдержанно рявкнул и отправил пустую посудину в оркестровую яму, где она, кажется, никого не задела, но навела шороху.
– А давайте возвратимся к вопросу о пропавшей девушке. – Евпсихий Алексеевич встряхнул головой, словно отбиваясь от только что увиденного. – Разве профессиональный взор сыщика не обнаружил на даче ничего подозрительного, за что можно было бы уцепиться и потянуть ниточку?.. К примеру, что из себя представляла эта дача?
– Дача как дача, Евпсихий, обыкновенная дача. – усталым негромким голосом произнёс следователь Крокодилов, что вынудило и парочку бесноватых скелетов на сцене прервать своё выступление и с интересом прислушаться. – Дощатый домик с тремя комнатками, даже с двумя – поскольку одна комнатка выполняла роль кухни и хозяйской бытовки. В таком домике может запросто разместиться компания из пятерых парней и одной девушки, не слишком мешая друг другу, и не подозревая о том, что может твориться в соседней комнате, если оттуда не доносится совсем подозрительного шума. Впрочем, компания большую часть времени проводила во дворе дома, впритык к огороду, где пили и жарили шашлыки – причём кто-то уверял меня, что специалистом по заготовке мяса и жарке шашлыков был Феофанов, а вот сам Феофанов (впрочем, не исключено, что я запутался, и это был не Феофанов, а кто-то другой, хотя бы и хромой Головакин) уверял, что шашлыки жарил Шершеньев, а остальные подносили уголёк, подшучивали над девушкой и забавлялись с хлипким февральским снегом – короче говоря, все были при своём деле. Но вот на что я сразу обратил внимание, это на поведение Сердцеедского. Если даже в кабинете следователя – скажем так, при обстоятельствах непростых и претендующих на тюремный срок – он держался крайне независимо, и порой строил из себя этакого надменного Цезаря, архаично балагуря и подтрунивая над приятелями, то можешь себе представить, Евпсихий, насколько высокомерно он себя вёл и на самом празднике. Кажется, на одном из допросов Головакин сказал, что чуть было не затеялась драка между Сердцеедским и Феофановым, поскольку первый назвал второго «генетическим отребьем», добавив, правда, что это всего-навсего шутка, а Феофанов незамедлительно указал на выгребную яму и спросил, не хочет ли Сердцеедский очутиться там?.. Казалось бы, что подобный рассказ может быть и пустячком, всего лишь промелькнувшим на безоблачном небе, но для меня он послужил достаточным поводом, чтоб усомниться в крепких дружеских отношениях внутри компании, а отсюда я сделал вывод, что если кому-нибудь одному из парней довелось совершить по-быстренькому преступное деяние, то он сохранил свой поступок в тайне от всех прочих, ибо не испытывал к ним дружеского доверия. Хотя, возможно, что это и не Головакин мне сказал про конфликт между Сердцеедским и Феофановым, а Свиристелов сказал – я не могу сейчас всего вспомнить… Вот бабка моя ещё жива, а она была приятельницей соседки этих Зарницких, и она шибко этим делом интересовалась, всё расспрашивала меня и записывала что-то в тетрадочку… не знаю, что она там записывала… Тебе бы дождаться моей бабки, когда она помрёт и здесь объявится, и порасспросить её хорошенько, что да как с пропажей этой Зарницкой, она тебе много чего порасскажет. А я деталей не могу вспомнить, сколько годков-то прошло.
– Ваша бабка?
– Ну, жена моя, старая она просто – вот я её бабкой и называю. – противно хмыкнул следователь.
Конферансье выпроводил незадачливую парочку скелетов за кулисы, вернулся к центральному микрофону, где ощерился всей пространностью своей комично-свирепой мордашки, после чего потребовал от благородной публики максимум внимания. Весь большой свет в зале погас, оркестр быстренько состряпал что-то вроде циркового антре, и на сцену выскочило длинношерстное хохластое существо небольшого роста, застыло в призывно-пересекающихся лучах прилипчивых софитов и противным детским голосочком затянуло грустный романс о лошадке, скачущей в спелом лугу.
– Халтура. – свистнул в два пальца пьяненький следователь Крокодилов. – Ещё бы «в лесу родилась ёлочка» спела. Да мы столько душегубов повидали, за шкирку хватали и на Божий свет вытаскивали, что из нас слезинки за просто так не выжмешь.
– Разве тут можно петь русское-народное? – усомнился Евпсихий Алексеевич. – Место злачное, без национальных и расовых мотивов.
– Это «в лесу родилась ёлочка» – народная песня? – желчно засмеялся следователь. – Евпсихий, ты меня удивляешь – умный вроде бы мужик. Песенка это вовсе не русская, сочинила её Раиса Адамовна Гедройц в 1903 году, специально натыкала туда оскорбительных инвектив… Уж сколько поколений русских детишек выросло, распевая этот гимн вурдалаков на радость простосердечным родителям, бабушкам и дедушкам!.. Вот как можно быть взрослым человеком и не осознавать весь сатанинский смысл этой песенки?.. Ведь что получается, Евпсихий?.. А получается то, что если мы не понимаем смысла сказанного, причём самого простого, самого лежащего на поверхности, смысла, значит отупели и очерствели душами!.. Очерствели, Евпсихий, и не можем рассчитывать на благостное дуновение, что способно направить нас подальше от бесполезных прегрешений. «Русские, очнитесь! родные мои, облагоразумьтесь!» – хотелось бы мне крикнуть во весь голос, да что теперь толку.
«Спросите у него, кем и как было замечено моё исчезновение. – требовательно зашуршал голос Анны Ильиничны. – Довольно болтать про Раису Адамовну, эта болтовня вас в такие дебри увлечёт – во век не выберетесь.»
Выступление взъерошенной певички закончилось извержением слюнных желёз, отчего конферансье перепугано схватился за голову и вызвал уборщицу, извиняясь перед публикой за непорядок, хотя, детские слёзы и недомогания могут быть понятны даже самому грубому мужлану. Уборщица сказалась больной, на минутку выскочила на сцену, чтоб продемонстрировать справку от доктора, которую конферансье вслух и зачитал. «Чёрт вас всех побери! – рявкнул он, разрывая справку в клочки. – Опять пневмония, опять требования санаторного отдыха и упоения в благоухающих садах. Я вас уволю к такой-то матери, и всем расскажу, что вы просто бездельница; любите, когда за вас другие работают. Уходите, не мозольте мне глаза!.." Тогда на сцену выползли мокрые половые тряпки и вполне самостоятельно принялись шуровать и убирать.
– Значит, Феофанов посулил Сердцеедскому выгребную яму, а тот и ухом не повёл? – обратился Евпсихий Алексеевич к следователю.
– У меня сложилось впечатление, что Сердцеедский редкостный циник, который и очутившись в выгребной яме, не принизит самооценки. Такие на многое способны, но цинизм – есть маскировка пошлой трусости, и циники редко идут на преступление.
– Если вся компания развлекалась при содействии абсолютно восторженной молодости, а Сердцеедский корчил из себя порфироносца и не принимал участия в общих забавах, то разве не должен был он первым заметить исчезновение девушки?
– По сути, должен был. – устало вздохнул следователь Крокодилов. – Возможно, что именно он первым и обратил внимание на недостаточное количество участников веселия. Но вся штука в том, что когда парни заметили долгое отсутствие девушки, они никак не связали этот факт с её окончательным исчезновением, а подумали о нелепой случайности, которую можно незамедлительно разъяснить, и этот мыслительный ход легко оправдывается излишним пьянством молодых людей. Сначала у них и Шершеньев пропадал на полчасика, а затем вернулся, как ни чём не бывало, бурча какие-то нелепые отмазки насчёт нерациональных стихий, а потом Свиристелов умахнул на железнодорожную станцию, думая, что там его поезд дожидается и не хочет без него уехать – какие только странности не взбредут в молодые головы!.. Поэтому парни посчитали, что гостья могла не исчезнуть, не сбежать с дачи, а заснуть в одной из комнат, скажем, в комнатке с громоздким диваном, на котором могли запросто поместиться и все вшестером, и даже послали кого-то проведать, не замёрзла ли девица в домике, поскольку он не слишком хорошо отапливался – кажется, функционировало всего-то парочка электрических батарей. И возможно, что они отправили на разведку Феофанова, который скоро вернулся и, пьяненько умиляясь, сообщил, что в комнатке с диваном никого нет, а поэтому девицу нужно искать на кушетке в другой комнатке, где она безусловно и прикорнула. Тогда, кажется, Головакин посетил комнатку с кушеткой, где также не нашёл подружки, чему совершенно не удивился, а решил, что та успела перебежать в комнатку с диваном за то время, пока Феофанов докладывал приятелям про её отсутствие в комнатке с диваном. Впрочем, и на кухне имелся топчан, на котором можно было запросто прикорнуть на часок-другой.
– Но на топчане её тоже не было?
– Разумеется, не было и на топчане, тут уж Головакин вместе с Феофановым сходили на кухню, чтоб посмотреть, и никого там не увидели.
– Для меня всё это кажется очень-очень странным. Молодые парни, молодая красивая девушка – почему они не настолько волновали друг друга, чтоб неотвязно и весело носиться по огородным проталинам или безумолку щебетать, усевшись на тот же самый диван, бросая любовно-лирические наживки?
– Они и волновали друг друга, разумеется, не без этого… Свиристелов и вовсе был похож на мальчишку с гипертоксикозом, готовым пойти на трах-тибидох с кем попало. Но пойми тоже ситуацию: девушка была приглашена Шершеньевым, значит, он и имел на неё, в некоторым смысле, основные права, а если кто-нибудь другой решился бы посягнуть, то возник бы конфликт. И вот что ещё меня сразу заинтересовало: если Феофанов обыскивал комнатку с диваном, а Головакин исследовал комнатку с кушеткой, то почему на поиски девушки не бросился Шершеньев, а вместе со Свиристеловым стоял как бы в стороне, даже не выказывая излишнего волнения насчёт её исчезновения, как будто бы что-то и знал?.. На мои конкретные вопросы: уединялся ли он с девушкой с целью проникновения в святая святых, Шершеньев отвечал, что не уединялся и не проникал, хотя, возможности на то имелись, поскольку девушка явно была не прочь.
«Если я и была явно не прочь, то не в тот раз. – сердито забормотал голос Анны Ильиничны. – Если молодой человек зовёт меня на шашлыки, то я и еду на шашлыки, а если он зовёт меня на свидание, то я тысячу раз подумаю, ехать ли мне на свидание, догадываясь чем всё это может кончиться.»
– Очень странно вёл себя Шершеньев – если не сказать больше. – почувствовал острую неприязнь к молодому человеку Евпсихий Алексеевич.
– Да, мне всё это тоже показалось очень-очень странным, и хоть Шершеньев был редкостный мудак, но никаких следов сексуальных утех (а по заверениям родителей, девушка была девственницей) в домике не обнаружилось. «Может быть кто-то с девушкой тогда и целовался. – рассказывал мне, кажется, Свиристелов, изо всех сил стремясь помочь следствию. – Но лично я ни с кем не целовался – это точно!»



