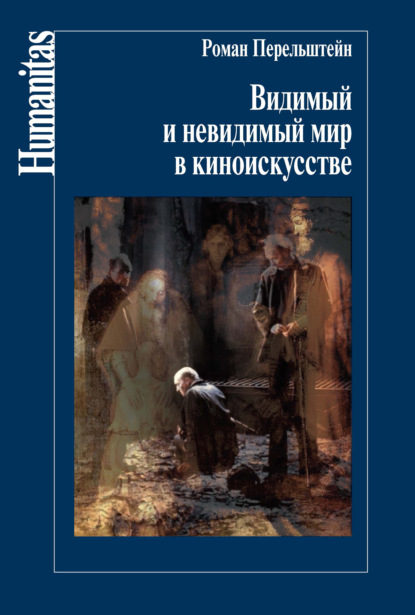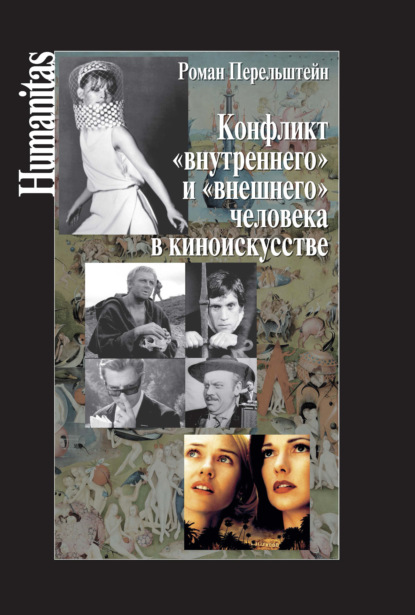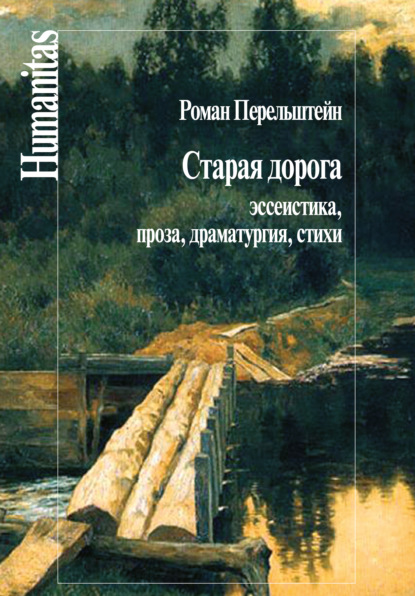Полная версия
Смена парадигм в лингвистической семантике. От изоляционизма к социокультурным моделям
Обращусь к конкретным примерам. А. Вежбицкая использует в качестве подтверждения своего постулата о врожденных базовых концептах работы Д. Слобина, в частности, его статью Slobin 1985. Судя по тексту статьи, Д. Слобин испытал в плане методологии заметное влияние идей порождающей грамматики Н. Хомского, что задало жесткую рамку для собранных его группой экспериментальных данных[66]. Слобин вводит понятие опорной детской грамматики (Basic Child Grammar), состоящей из набора операционных принципов (Operating Principles), характеризующих систему организации языковой деятельности ребенка (Language-Making Capacity) и утверждает, что эта грамматика носит универсальный характер для всех детей, и лишь позднее ребенок, отказываясь от нее, осваивает грамматику конкретного языка (Slobin 1985, p. 1158–1160).
Заданная схема определяет характер регистрации экспериментальных данных: в экспериментальных описаниях фиксируется, главным образом, речевая деятельность ребенка, на жесты ребенка, которыми сопровождается его речь, обращается меньше внимания, и лишь как слабый периферийный фон в описаниях присутствует ситуационный контекст и действия взрослого, регулирующего речевые усилия ребенка. Однако, даже при такой ограниченности экспериментального материала и искусственности теоретических построений, заметно, что определяющую роль в освоении ребенком языка играет опыт, который он обретает в процессе социокультурной коммуникации, т. е. его повседневная практика[67]. При этом в предложенной автором схеме (даже закрывая глаза на ее теоретическую некорректность), лишь при большом усилии можно найти какие-либо аналоги семантическим примитивам в понимании А. Вежбицкой[68].
Крайне показательна также отсылка к работам Дж. Брунера, которого автор NSM‐теории трактует как своего сторонника. Вежбицкая приводит фрагмент из Брунера, в котором тот говорит о долингвистической способности к восприятию значения (readiness for meaning) утверждая, что существуют определенные классы значений, «настроенность» на которые заложена в человеке еще до рождения и которые до формирования языка существуют как протолингвистические реперезентации мира[69]. На первый взгляд, в данном фрагменте можно увидеть нечто подобное семантическим примитивам в смысле Вежбицкой, однако, через несколько страниц Брунер отчетливо показывает, что он говорит здесь совсем о другом, а именно, о способности человека к социальному общению, о его социальной природе, основания которой имеют врожденный характер[70].
Отмечая заметную произвольность в толковании экспериментальных данных, следует обратить внимание и на одну логическую процедуру, используемую Вежбицкой при интерпретации материалов наблюдений. Иногда, приводя результаты экспериментов, она отмечает, что трактовка статьи ее автором не является единственно возможной, что они могут быть проинтерпретированы и иным, когерентным с NSM-концепцией способом. Так, доказывая, что because является семантическим примитивом и его понимание присуще человеку с рождения, Вежбицкая, с одной стороны, ссылается на Канта, для которого способность к каузированию является априорной способностью человека, а с другой – приводит материалы Л. Блума, который исследовал каузацию в речи американских детей двухлетнего возраста. Излагая затем интерпретацию автора исследования, который отрицает врожденный характер because для ребенка и связывает его со стремлением зафиксировать регулярности в его повседневной социальной практике, она отмечает, что приводимые данные полностью согласуются и с утверждением о казуальности как врожденной форме восприятия человеком мира[71]. Однако при таком понимании идея семантических примитивов становится практически неопровержимой (понятие врожденности превращается в нечто аналогичное понятию судьбы в античности), но одновременно теряет научный статус – как мы уже отмечали, возможность опровержения является в современной методологии науки одним из ключевых признаков научности теории. Если следовать указанной логике, то отсутствие слова because в речи детей не опровергает утверждения о врожденности этого концепта: можно сказать, что в раннем возрасте отсутствуют условия для актуализации врожденной способности. Однако, становясь неопровержимой, такая теория теряет свою предсказательную силу, тогда как утверждение о связи because с социальным опытом ребенка дает возможность предсказывать, в каких контекстах происходит фиксация причинно-следственной связи, а в каких нет, например, объяснить, почему все приводимые Блумом примеры относятся непосредственно к самому ребенку как субъекту высказывания, и среди них нет ни одного случая выявления объективных, не центрированных на ребенке закономерностей (например, высказываний вида «на улицах лужи, потому что идет дождь»).
В целом, похожим образом обстоит дело и с работами по традициональным культурам, на которые ссылается Вежбицкая. Основной ее аргумент здесь звучит следующим образом: набор семантических примитивов одинаков для всех языков, как бы далеко они друг от друга ни отстояли, как бы ни различались говорящие на этих языках культуры по мировоззрению и типам деятельности. Как известно, существует значительное число антропологов, которые не признают такого единства, утверждая, что в языках традициональных культур отсутствуют понятия, выражающие причинно-следственную связь, базовые ментальные понятия и т. д. Вежбицкая и Годдард опровергают подобные утверждения, указывая, что их авторы не учитывают полисемии и аллолексии, с учетом которых изоморфизм между базовыми наборами становится гораздо более явным (Wierzbicka 1996, p. 185–210; Goddard 2002, p. 20–30). Однако корректного описания когнитивных процедур, стоящих за восприятием того или иного слова, ни Вежбицкая, ни Годдард не проводят, так как для этого требуется не лингвистический, а психолингвистический анализ. Более того, даже в работах психологов, которые отчетливо фиксируют особенности мышления представителей традициональных культур, Вежбицкая не обнаруживает этих особенностей и, используя описанный Поппером метод, интерпретирует приводимые данные в свою пользу.
Приведу лишь один пример. Вежбицкая ссылается на английский текст знаменитой работы А. Лурии, опирающейся на его исследования 30-х годов, но опубликованной в СССР лишь в 1974 г. (Лурия 1974; Luria 1976). В этой работе, и, в частности, в тех ее фрагментах, которые она упоминает, Лурия отчетливо показывает, что мышление и мировосприятие человека традициональной культуры связаны с контекстом его повседневной деятельности и абстрагироваться от этого контекста, решать задачи, не опирающиеся на его повседневный опыт, он не может. Не возражая против наблюдений Лурии, Вежбицкая отмечает, что его информанты используют, тем не менее, слова all, if, т. е. эти понятия присутствуют в их языке, что позволяет выделить их как семантические примитивы (Wierzbicka 1996, p. 209–210). Однако когнитивные процедуры, стоящие за all, if в текстах Лурии, так же, как и в детских высказываниях, воспроизводящих упомянутое выше because, существенно отличаются от подобных процедур в понимании Канта и Лейбница. Здесь основой суждения является личный опыт, а не абстрактная безличная необходимость, и за внешним семантическим сходством в указанных ситуациях стоят различные типы мышления, которые можно условно назвать симпрактическим и теоретическим[72]. Если рассматривать язык как формальную систему, оторванную от человека, такое отличие невозможно увидеть, но как только исследователь включает человека в процесс формирования и развития языка, оно сразу становится заметным.
Аналогичное замечание можно сделать и на утверждение Боаса (с которым солидаризируется Вежбицкая и многие другие лингвисты), что в языке примитивных народов, хотя он и отражает, в первую очередь, их непосредственный опыт, достаточно средств для того, чтобы выражать абстрактные идеи. Рассматривая язык как формальную систему, данное утверждение справедливо, однако если учитывать говорящего на нем человека, данное высказывание нужно переформулировать следующим образом: в любом языке потенциально достаточно средств для выражения любых, сколь угодно абстрактных понятий, но для того, чтобы такая возможность стала актуальной языковой практикой, нужен отчетливо формулируемый культурный запрос и долгий промежуточный этап формирования ответа на этот запрос[73].
Завершая обсуждение NSM-концепции, необходимо сделать два замечания. Возвращаясь к вопросу об образе мира и человека, составляющем основу данной концепции, следует признать ее автора «наивным механицистом», т. е. исследователем, который, не обозначая отчетливо своих онтологических оснований, неявно разделяет представления мыслителей XVII века. Важно также еще раз подчеркнуть, что обсуждение работ А. Вежбицкой в рамках данной главы ограничивается NSM-концепцией. В целом же спектр осуществленных ей исследований заметно шире, и другие составляющие этого спектра будут упомянуты в последующих главах.
2.2. Модель «Смысл⇔Текст»
Следует отметить, что редкие размышления о способах верификации теории в рамках модели «Смысл⇔Текст» обычно отсылают к критерию интроспекции со ссылками на А. Вежбицкую[74], поэтому приведенные выше соображения о квазирелигиозности можно перенести и на эту модель[75].
Онтологические основания теории, образы мира и человека, стоящие за ней, заключены в рамки компьютерной парадигмы, ядром которой является понятие информации. Такая установка задается уже первыми словами монографии И.А. Мельчука, посвященной изложению модели «Смысл⇔Текст»:
«В этой книге мы исходим из следующего тезиса:
Естественный язык – это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы» (Мельчук 1999, с. 9).
И приведенное определение, и следующие затем комментарии автора к нему не дают возможности усомниться в ключевом для модели образе человека-компьютера, вся жизнедеятельность которого строится вокруг сообщения, получения и переработки информации[76]. Не обсуждая здесь работы психологов, в которых показана несостоятельность подобного подхода[77], остановлюсь лишь на вопросах, имеющих прямое отношение к анализируемой теории. Каково происхождение пространства смыслов, его онтологический статус? Кто выступает в качестве критерия правильности толкования смыслов, корректности устанавливаемых соответствий? Если следовать критерию интроспекции, то сам лингвист, что ведет к замыканию теории на себя и лишает ее объективных критериев проверки. Могут ли смыслы эволюционировать со временем и как в модели заложена возможность описания этой эволюции? Судя по всему, такая возможность не рассматривается, и язык предстает в ней как замершая, статичная система, существующая вне потока времени, в стороне от социокультурных процессов. Вообще, следует заметить, что вопрос о формировании пространства смыслов – базовый для понимания ограниченности методологии данной модели. Попытка аккуратно продумать его сразу обратила бы исследователя к необходимости анализа социокультурного контекста и привела бы в итоге к совсем иной методологической системе координат.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Бор 1961, с. 51–128; Джеммер 1985, с. 313–369, особ. 365–369; о применении этих установок в лингвистике см.: Glebkin 2009.
2
Об антропном принципе в космологии см., напр.: Barrow, Tipler 1986, особ. p. 15–26; Балашов, Казютинский 1987.
3
Ср. название одной из последних коллективных монографий Д. Герартса с коллегами: Advances in Cognitive Sociolinguistics, а также введение к ней (Geeeraerts et al. 2010).
4
См., напр.: Croft, Cruse 2004, p. 1–6; Кубрякова 2004, с. 9–23, 57, 475–477; Evans, Green 2006, p. 27–51; Geeraerts, Cuyckens 2007.
5
См. об этом: Глебкин 2007, Глебкин 2007а. С небольшими изменениями обе статьи включены в: Глебкин 2010.
6
Я опускаю здесь анализ ряда влиятельных работ, например, исследований Дж. Фодора (Fodor 1975; Fodor 1983), выполненных в рамках изоляционистской парадигмы, поскольку такой анализ не привнес бы ничего принципиально нового в теоретическом плане. Критические замечания, обращенные в данной главе к методологии Н. Хомского или А. Вежбицкой, могут быть высказаны и в их адрес.
7
Сочетание «научно-исследовательская программа» понимается здесь в терминологическом смысле, так, как оно было введено в работе И. Лакатоса (Лакатос 1995 (1970)).
8
См.: Тестелец 2001, с. 502–504; Величковский 2006, т. 1, с. 64–67; Harris 1993, p. 37, 47; Кубрякова 2004, p. 49; Lakoff, Johnson 1999, p. 469–470; Lycan 2003, p. 11; Wierzbicka 1996, p. 6. Однако анализ генеративной грамматики будет существенно неполным, если не учитывать также и исследований коллег Хомского, в частности, работ Дж. Катца и П. Постала, Дж. Маккоули, Х. Росса и других по генеративной семантике, а также Г. Ласника и других в рамках минималистской программы.
9
См.: Chomsky Is Citation Champ // MIT Tech Talk. v. 36, № 27, April 15, 1992.
10
Об эволюции проекта генеративной грамматики в 50–70-е годы см., например, монографии Дж. Ньюмейера (Newmeier 1996, базовая схема, лежащая в основе исследования, описана на стр. 42–43) и Р. Харриса (Harris 1993).
11
C другой стороны, Хомский говорит о происхождении математической способности как абстракции лингвистических операций, устанавливая тем самым прямую связь между лингвистикой и математикой (Chomsky 2006, p. 184–185).
12
См.: Chomsky 1998 (1977), p. 190–191, где Хомский прямо пишет, что вопрос языка – это, в первую очередь, вопрос власти, а также Chomsky 2000, p. 31.
13
Даммит иллюстрирует это утверждение типичной для него метафорой игры: знание (часто неполное) правил игры кем-либо из игроков еще не свидетельствует о том, что игрок создает эти правила. См.: Dummett 1991, p. 86–87.
14
«…a rational Martian scientist studying humans might not find the difference between English and Navajo very impressive» (Chomsky 2000, p. 27).
15
Хомский неоднократно цитирует высказывание Гумбольдта о том, что система языка строится благодаря неограниченному использованию ограниченных средств (Chomsky 1965, p. V; Chomsky 2000, p. 6, 73; Chomsky 2006, p. 15).
16
См., напр.: Chomsky 1998 (1977), p. 49–52. Здесь Хомский проводит, в частности, любопытную параллель между генеративной грамматикой и системой распознавания лиц. Предлагая задуматься над тем, как сложно устроено каждое подобное действие, осуществляемое нами интуитивно (мы идентифицируем лица в движении, правильно идентифицируем лицо человека, которого мы не видели несколько лет и т. д.), он утверждает далее: «It is possible that the theory of face perception resembles a generative grammar. Just as in language, if you suppose that there are base structures and transformed structures, then one might imagine a model which would generate the possible human faces, and the transformations which would tell you what each face would look like from all angles» (ibid., p. 52).
17
См., напр.: Thagard 2005, p. 6, 34, 50–51, 59; Величковский 2006, т. 1, с. 64–67; Bermúdez 2010, p. 16, 17, 24, 27, 31.
18
Хомский прямо говорит о такой возможности (см.: Chomsky 2006, p. 170).
19
Впрочем, в другом месте Хомский выражает данное различие противопоставлением teach и learn. Мы научаемся (learn) грамматике, но не учимся (are taught) ей как учимся, например, решать задачи на уроках физики (Chomsky 1998a (1975), p. 161).
20
Конкретные примеры см. в: Chomsky 1965, особ. р. 64–75; Chomsky 2006, p. 21–56, 134–136. В качестве простейшей приводимой Хомским иллюстрации различия между глубинной и поверхностной структурами можно сослаться на высказывание A wise man is honest, которая на уровне глубинной структуры сводится к высказыванию A man who is wise is honest, выраженному в виде графа (Chomsky 2006, p. 25–26). Другой иллюстрацией может быть сопоставление предложений I persuaded the doctor to examine John и I expected the doctor to examine John, имеющих почти совпадающую поверхностную структуру, но существенно различающихся на глубинном уровне. Это проявляется при трансформации данных предложений в пассивную форму: I persuaded John to be examined by the doctor и I expected John to be examined by the doctor. Второе предложение имеет ту же область истинности, что и его активная форма, первое – нет и непосредственно не связано с высказыванием в активной форме. Хомский объясняет это различие, приводя следующие глубинные структуры для данных предложений: I past persuade the doctor of that the doctor AUX examine John и I past expect it that the doctor AUX examine John (рast обозначает прошедшее время, AUX – вспомогательный глагол) (Chomsky 2006, p. 134–136).
21
«Thus, the semantic component, if formulated correctly, provides an explanation of the speaker» s ability to determine the meaning of any sentence, including ones wholly novel to him, as a compositional function of the antecedently known meanings of the lexical items in it» (Katz, Postal 1964, p. 14–15).
22
Следует заметить, что эта установка, впрочем, как и общие методологические основания подхода, имеет прямые аналогии в модели «семантических примитивов» Вежбицкой – Годдарда. См. об этом во второй главе данной монографии. О влиянии гипотезы Катца – Постала на модель «Смысл – Текст» см.: Тестелец 2001, с. 605.
23
Здесь необходимо отметить работы Х. Росса, Дж. Маккоули, Дж. и Р. Лакоффов. Как иллюстрацию характера полемики и предлагаемых подходов см., напр.: McCawley 1968. История сюжета изложена в Harris 1993; Huck, Goldsmith 1995; Newmeyer 1996.
24
См. об этом: Newmeyer 1996, p. 120–121. Ср. Green 1974, p. 6–7.
25
Интересно, что, иллюстрируя зависимость значения от внешних факторов, Хомский в определенных ситуациях использует идеи философов и лингвистов, стоящих на иных методологических позициях. В частности он приводит любопытный пример, заимствованный у Дж. Остина: предложение Нью Йорк отстоит от Бостона на 200 миль будет истинным, если связано с вопросом, как долго (четыре часа или четыре дня) ехать из Бостона в Нью Йорк на машине, и ложным, если при расчете бензина на дорогу вы исходите ровно из этой цифры, а реальное расстояние составляет 210 миль (Chomsky 1998 (1977), p. 173).
26
См. о ней: Chomsky 1995, p. 13–128; Тестелец 2001, с. 554–613.
27
Chomsky 2006, p. 21, 88. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 98.
28
Chomsky 2006, p. 100. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 63; Chomsky 1998a (1975), p. 4, 161, 173; Chomsky 2000, p. 61–62, 120.
29
В тех редких случаях, когда Хомский ссылается на данные экспериментов, бросается в глаза явная предзаданность интерпретаций, допускающих прямо противоположные толкования. Так, он упоминает исследование Л. Глейтман (Gleitman 1990; см. также: Fisher et al. 1994), где утверждается, что, по интерпретации Хомского (и отчасти автора статьи), маленькие дети осваивают значение придуманных экспериментатором слов, опираясь на синтаксические конструкции, в которые эти слова помещаются (Chomsky 2000, p. 122). Однако при этом упускается из виду, что каждая такая конструкция сопровождается наглядной демонстрацией синтаксически заданного действия, и гораздо более убедительным в данном случае кажется утверждение, что ребенок реагирует не на универсальные синтаксические закономерности, а на конкретную ситуацию. Пожалуй, наиболее интересным из экспериментальных «доказательств» модели Хомского, кажется исследование Н. Смита и коллег, в котором они описывают некоего Кристофера, получившего в младенчестве мозговую травму и испытывающего серьезные проблемы в координации, в осуществлении повседневных бытовых действий, трудности в выполнении ряда простейших интеллектуальных тестов, но одновременно обладающего способностью переводить с 16 языков на английский (Smith, Tsimpli 1995; ср. Chomsky 2000, p. 121). Однако и в этом исследовании теоретическая рамка, в которую оно помещалось, определялась конкретной теорией (Теорией принципов и параметров), что до известной степени предопределило интерпретацию. Исследование похожих по ряду внешних характеристик психологических феноменов, в котором перед испытуемым ставятся иные вопросы и задается иная проблемная рамка, показывают, что результаты исследования могут эксплицировать психологические механизмы, весьма далекие от интерпретации Хомского. См.: Лурия 1994.
30
Так, например, крайне сомнительным выглядит утверждение Хомского, что, строя вопрос к фразе «The man who is tall is in the room», ребенок безошибочно произносит «Is the man who is tall in the room?» вместо «Is the man who tall is in the room?» (Chomsky 1998a (1975), p. 173–174). Сложно представить себе ребенка, который произносит подобные фразы в устной речи.
31
См.: Chomsky 2006, p. 152; Chomsky 1998a (1975), p. 38, 155.
32
См.: Chomsky 1995a, p. 3–4; Chomsky 1998 (1977), p. 78; Chomsky 2000, p. 83–84, 108–109, 166; Chomsky 2006, p. IX, 174, 180. Важно отметить, что, подчеркивая корректность проведенной параллели, Хомский настаивает на природном характере языка, принципиально не отличающем его от физических объектов, и устанавливает прямые соответствия между лингвистическими и физическими теориями, а также между «наивной лингвистикой» и «наивной физикой» (Chomsky 2000, p. 106–133).
33
Хомский иллюстрирует соединение в человеческом познании ограниченности и бесконечности образом целых и действительных чисел: ряд целых чисел бесконечен, но целые числа составляют ничтожную часть более обширного класса – класса действительных чисел (Chomsky 1998a (1975), p. 124).
34
См.: Chomsky 1998a (1975), p. 137–138; Chomsky 2000, p. 83, 107; Lycan 2003, p. 22–23; Chomsky 2003, p. 262.
35
См.: Хомский 2005 (1966), с. 23–28; Chomsky 2006, p. 9–12.
36
См.: Хомский 2005 (1966), с. 74–110; Chomsky 2006, p. 13–17. Хорошей иллюстрацией интерпретации Хомского является приведенный в его работах анализ авторами «Грамматики Пор-Рояля» высказывания «Невидимый Бог сотворил видимый мир», в котором ими выделяется уровень слов («невидимый Бог» «сотворил», «видимый мир») и уровень смыслов (суть предложения здесь сводится к трем утверждениям: «Бог невидим», «Мир является видимым», «Бог сотворил мир»).
37
См.: Quine 1969; Searl 1972; Putnam 1988, p. 4–7; Lakoff, Johnson 1999, p. 469–512.
38
См.: Lust, Foley 2004, p. 64–97; Chomsky, Foucault 2006.
39
См.: Тестелец 2001, с. 654–663; Кравченко 2001, с. 24–27; Кубрякова 2004, с. 33–34.
40
См., напр.: Chomsky 1998a (1975), p. 55–58; Chomsky 2000, p. 184–187. Замечу, что я не встретил ни одного текста, в котором Хомский явно признал бы возражения оппонентов справедливыми, согласившись с их доводами.
41
Cм.: Popper 1962, p. 33–39 (русский пер.: Поппер 1983, с. 240–244).
42
См.: Lakoff, Johnson 1999, p. 493. Здесь уместно вспомнить историю Лакатоса о ньютонианце, объяснявшем расхождение между результатами теории и данными эксперимента неучтенностью некоторых граничных условий (таких, как новая планета, например, или облако космической пыли). См.: Лакатос 1998, c. 24–28. Лакофф упоминает в данном контексте о тезисе Дюгема – Куайна, который представляет собой универсальное обобщение подобной стратегии. Как показывает Лакатос, данная стратегия иногда оказывается вполне позитивной в научном плане, защищая теорию от чрезмерного радикализма.