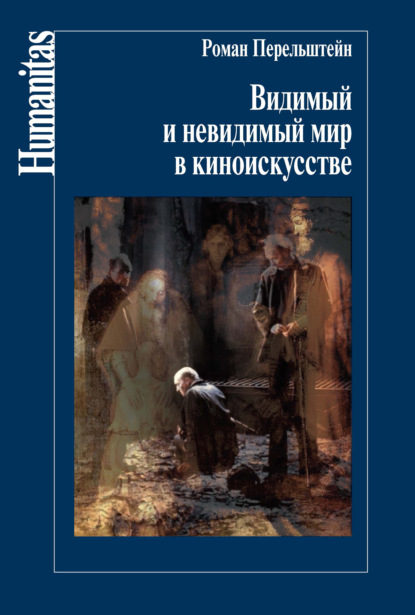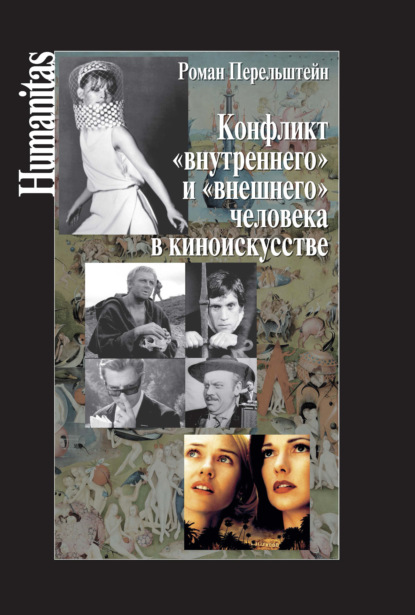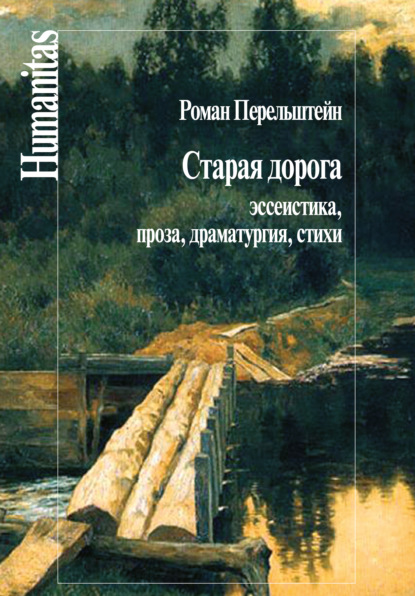Полная версия
Смена парадигм в лингвистической семантике. От изоляционизма к социокультурным моделям
3. Одной из таких особенностей является утверждение о врожденности присущей человеку языковой способности. Критики Хомского обращают внимание на принципиальную неверифицируемость этого тезиса: непонятно, как терминологически описывать подобную «врожденность», какие конкретно биологические механизмы за ней стоят.
Хомский отстаивает свой тезис тремя способами. Основной из них – хорошо известное утверждение о «бедности стимула», т. е. уже подробно описанный выше аргумент, отсылающий к невероятной интенсивности освоения ребенком языка на крайне ограниченном фактическом материале[47]. Замечу еще раз, что данное утверждение выглядит для Хомского самоочевидным. Многочисленные экспериментальные исследования процессов овладения ребенком языка в раннем детстве почти не используются им в качестве аргументации.
Второй способ – использование разнообразных метафор, подчеркивающих физиологический базис языковой способности, формирующих представление о языке как ментальном органе человека. Так, полемизируя с интеракционистами, для которых главным фактором при освоении языка является взаимодействие с внешней природной и социокультурной средой, Хомский находит в их позиции прямую аналогию абсурдному утверждению, что развитие эмбриона определяется его взаимодействием c внешним окружением (Chomsky 2000, p. 101).
Третий аргумент звучит весьма неожиданно и обращает нас к обсуждаемому в предыдущем пункте высказыванию Декарта. Хомский утверждает, что можно сделать компьютерную программу, которая выстраивала бы подробный путь от глубинных структур к заданным поверхностным структурам в соответствии с принципами генеративной грамматики, эксплицировав таким образом в каждом конкретном случае работу языкового модуля в человеке. Однако, даже если предположить наличие соответствующей компьютерной программы (возможность конкретной реализации данной идеи вызывает большие сомнения), восстановление указанной цепочки не будет означать описания процесса реального развития языка[48]. Мы снова сталкиваемся с ситуацией подмены живого человека созданным в рамках определенной теории идеальным конструктом.
4. С такого рода подменой связан и еще один часто адресуемый Хомскому упрек в том, что он выстраивает естественный язык по модели формального, создавая его из «пустых», не наполненных никаким содержанием элементов, преобразующихся по формальным законам. Отметим, что и здесь ситуация оказывается двойственной. С одной стороны, Хомский неоднократно подчеркивает, что естественный язык представляет собой уникальную структуру и не имеет никаких аналогов среди формальных языков. Так, важнейшим элементом «языкового модуля» человека наряду с вычислительной системой является лексикон, несущий определенную семантическую информацию, так что базовые элементы естественного языка нельзя считать пустыми. Тем не менее, приведенные выше отсылки американского лингвиста к компьютерным программам, адекватно моделирующим языковую способность, равно как и сам используемый им инструментарий, дают возможность трактовать естественный язык в его модели как особую формальную систему, пусть и отличающуюся кардинально от других формальных систем.
5. В заключение следует акцентировать внимание на еще одном элементе полемики, объединив при этом два сюжета: автономию языковой системы как когнитивного модуля человека и автономию синтаксиса в рамках языковой системы. Оставляя в стороне вопрос о широко обсуждаемой в рамках когнитивной грамматики семантической нагрузке синтаксических конструкций и ключевую в данном контексте реплику Хомского о поверхностных эффектах, которые находятся вне поля его интересов[49], я бы хотел остановиться на крайне показательной дискуссии Хомского и Пиаже, касающейся автономии языковой системы. Частично соглашаясь с утверждением Хомского о независимости синтаксиса, Пиаже говорит, что использование гипотезы врожденности для его обоснования является слишком сильным и плохо верифицируемым тезисом и что существуют более простые способы объяснения, отсылающие к социальному опыту ребенка в раннем детстве. Так, ребенок оказывается в состоянии разделять содержание и структуру, т. е. «семантику» и «синтаксис» в ежедневно осуществляемых действиях (например, осознавать, что открывание коробки и открывание рта или раскрытие сжатой в кулак ладони обладают структурной общностью[50]). Подобные примеры показывают, что важным элементом в осознании относительной автономии синтаксиса и отделении синтаксических конструкций от их наполнения является перцептивный и проприоцептивный опыт человека. Хомский возражает на это следующим образом. В такой ситуации, по его мнению, одним из путей проверки гипотезы Пиаже о влиянии сенсомоторного интеллекта на освоение языка становится экспериментальное исследование процесса овладения языком детьми с остро выраженными формами моторной и перцептивной недостаточности (больными церебральным параличом, например). Он не знаком с такими исследованиями, но, насколько он знает, слепые дети осваивают язык при прочих равных условиях даже быстрее, чем зрячие (Lust, Foley 2004, p. 95). Следовало бы ожидать, что в силу важности такого рода исследований для подтверждения его теории Хомский обратится в своих работах к подробному их анализу, но ничего подобного не происходит. Более того, экспериментальные исследования освоения языка слепыми детьми показывают, что реальная картина крайне сложна, что такие дети испытывают изначальные трудности в освоении языка по сравнению со зрячими сверстниками, которые преодолеваются затем за счет различных компенсаторных механизмов (Mills 1983; Pérez – Pereira, Conti – Ramsden 1999). Результатом становится присущий им особый тип языкового сознания, характеризующегося целостным, образным (т. е. предполагающим большую эмоциональную окраску и менее четкую логическую структуру) восприятием в отличие от аналитического владения языком, более характерного для зрячих детей (Pérez – Pereira, Conti – Ramsden 1999, p. 134). Такая образность вполне укладывается в гипотезу Пиаже и противоречит базовым установкам теории Хомского.
Приведенный пример наглядно демонстрирует методологические установки Хомского и специфику его взаимоотношений с экспериментальной традицией.
Завершая данную главу, хотелось бы еще раз отметить, что, хотя Хомский и не занимался семантикой вплотную, влияние его базовых методологических установок и мировоззренческих постулатов (обращение к рационалистической традиции XVII–XVIII веков, формальное описание языка, сводящее его к небольшому набору универсальных правил, независимость языковой системы от социокультурного контекста и т. д.) на дальнейшее развитие семантики огромно. Тому, как конкретно оно проявляется в претендующих на универсальность семантических теориях и что нового появляется в них, посвящена вторая глава.
Глава 2
Мировоззренческие основания и методология изоляционистских теорий в области лингвистической семантики
В данной главе речь пойдет о теориях, которые условно можно назвать фундаментальными[51]. В лексической семантике, как, впрочем, и в любой другой области науки, существует значительное число моделей ad hoc, более или менее успешно обслуживающих практические нужды исследователей в определенной локальной ситуации. Эти модели не претендуют на фундаментальность, их цель состоит в решении конкретных практических задач. Наряду с этим в областях знания, вышедших на уровень «нормальной науки» (Т. Кун), есть теоретические алгоритмы, задающие базовую парадигму для описания всех явлений в данной области, выступающие в ее рамках как универсальные объяснительные модели. В классической механике, например, эту функцию выполняют законы Ньютона, включая закон всемирного тяготения, в классической электродинамике – уравнения Максвелла. Мы остановимся в данной главе на теориях в области лингвистической семантики, которые претендуют на фундаментальность, исходя при этом из модели языка как автономной системы. В качестве таких теорий мы рассмотрим две: NSM (natural semantic metalanguage) – концепцию Анны Вежбицкой и модель «Смысл⇔Текст» Мельчука – Апресяна – Жолковского [52].
Идея естественного семантического метаязыка как основы для универсального семантического описания была предложена Вежбицкой в начале 70-х (в 90-е годы к разработке теории активно подключился Кл. Годдард). В это время основные работы, в которых описывался мировоззренческий базис и методология генеративной грамматики, были уже опубликованы, и, несмотря на критику Вежбицкой позиции Хомского [53], ее онтологические постулаты оказываются весьма близкими его установкам[54].
Для снятия возможных недоразумений нужно сразу подчеркнуть, что Вежбицкая как автор NSM-теории и как практически работающий лингвист производят впечатление двух разных людей. Лейтмотивом ее статей и монографий, посвященных работе с конкретным материалом, является утверждение о культуроспецифичности анализируемых понятий, которое часто обосновывается тщательным социокультурным анализом, а в ряде случаев дополняется выявлением определяющего влияния социокультурных факторов на семантическую эволюцию[55]. Более того, иногда, ощущая невозможность описания семантических процессов в рамках NSM-теории, Вежбицкая создает ряд теорий ad hoc, решающих локальные задачи[56]. В целом, можно сказать, что в непосредственном анализе она неявно исходит из антропоцентричной и культуроцентричной модели языка, кардинально противоречащей по своим мировоззренческим установкам концепции семантических примитивов. Этой составляющей ее исследований мы коснемся в следующих разделах книги. В данной главе речь пойдет о Вежбицкой исключительно как авторе NSM-теории.
Обсуждение модели «Смысл⇔Текст» также требует ряда предварительных замечаний. Во-первых, взгляды авторов заметно эволюционировали с середины 1960-х до конца 2000-х, и Ю.Д. Апресян, например, выделяет свои работы 1990-х – 2000-х годов в отдельный проект, генетически связанный с моделью «Смысл⇔Текст», но обладающий и рядом принципиальных особенностей. Этот проект обозначается им как «Московская семантическая школа интегрального описания языка и системной лексикографии» (Апресян 2006, с. 25). Однако, несмотря на все различия, базовые онтологические и методологические постулаты авторов сохранялись, что дает нам право работать, в первую очередь, с моделью «Смысл⇔Текст», отдельно остановившись на поздних работах Ю.Д. Апресяна и его группы. Во-вторых, в данной главе акцент будет сделан на семантической составляющей модели. Ее синтаксическая составляющая строится на постулатах, близких постулатам Хомского, проанализированным в предыдущей главе (ср.: Апресян 1990, с. 124).
Переходя к непосредственному обсуждению, рискну начать с одного «наивного» утверждения. Я думаю, не-лингвист не сможет понять, что значит «Олег претендует на этот кусок сыра» или «“Спартак” в этом году претендует на золотые медали» из толкования «Z претендует на Y» = «Z требует, чтобы Х предоставил Z-у Y, потому что Z считает, что имеет право получить Y» (Апресян 1995, с. 109) или осознать, каков смысл выражений «душа болит», «большой души человек», «душа ушла в пятки», прочитав следующее описание: душа: one of two parts of a person people can» t see this part because of this part, people are not like other living things because of this part, a person can feel many things when this person thinks about something because of this part, a person can be a good person (because of this part, a person can live with God) because of this part, good things can happen inside a person other people can» t know what happens in this part if this person doesn’t want them to know it it is good if other people can know it it is good if a person wants other people to know it (Wierzbicka 2005, p. 273–274).
Кажется, что следовать подобным описаниям при освоении языка – все равно, что учиться плавать по инструкции («примите в воде горизонтальное положение», «поднимите левую руку», «погрузите ее в воду под углом 130–150°», «одновременно совершайте вертикальные движения прямыми ногами» и т. д.).
Обычно на подобную реакцию, в которой я далеко не оригинален, следует ответ: приведенные описания не предназначены для не-лингвистов, они составляют один из элементов лингвистки как строгой науки (cр., напр., замечание о Толково-комбинаторном словаре в: Мельчук 1995, с. 5–6). Об этой научной строгости в дальнейшем и хотелось бы поговорить. Строгая наука в ее классическом понимании должна опираться на непротиворечивую систему методологических принципов, имеющих характер интуитивной очевидности, и предлагать объективную, т. е. независимую от конкретного исследователя, процедуру верификации получаемых результатов, другими словами, обладать определенными объективными критериями истинности. Попробуем посмотреть, какие методологические принципы лежат в основании моделей Мельчука – Апресяна – Жолковского и А. Вежбицкой и какие процедуры верификации сделанных утверждений предлагаются авторами.
2.1. «Естественный семантический метаязык» А. Вежбицкой
Мы начнем анализ с модели А. Вежбицкой, в которой ответы на поставленные вопросы даны более отчетливо. Основные положения NSM-концепции Вежбицкой можно сформулировать следующим образом: α) В рамках любого языка может быть выделено базовое ядро, состоящее из так называемых «семантических примитивов» – простых, интуитивно ясных слов, не подлежащих определению. Значение каждого слова данного языка может быть выражено в виде определенной конфигурации семантических примитивов (Wierzbicka 1972, p. 10–16; Wierzbicka 1980, p. 2–33; Wierzbicka 1985, p. 336–338; Wierzbicka 1996, p. 9–12; Goddard 2002, p. 5, 16)[57]. α1) На значение слова не влияют значения других слов в лексиконе. Более того, чтобы сравнивать различные слова или описывать эволюцию семантики какого-либо слова, надо сначала определить сравниваемые значения через семантические примитивы[58].
β) Между базовыми ядрами различных языков можно установить взаимнооднозначное соответствие, т. к. все они выражают базовый набор врожденных ментальных концептов, видимо, характерный для человека как биологического вида и составляющий часть генетического наследия человека. Данным концептам присуща и определенная синтаксическая упорядоченность, что позволяет в отношении них говорить об особом lingua mentalis (Wierzbicka 1972, p. 25–26; Wierzbicka 1980, p. 2–33; Wierzbicka 1996, p. 14–15, 17–21, 28–29, 112–113; Goddard 2002, p. 5, 16). γ) Предложенная модель позволяет сравнивать различные языки между собой, сводя их к общему основанию, показывать семантическое богатство и национальную специфику концептов, трактуемых словарями как языковые эквиваленты (Wierzbicka 1980, p. 40–42; Wierzbicka 1996, p. 15–16; Wierzbicka 2005, p. 258–260).
Изложенный выше подход дает, по мнению автора, возможность решить ряд значимых для семантики проблем: проблему построения корректного метаязыка описания, проблему «логического круга» в толкованиях (Wierzbicka 1980, p. 11–14; Wierzbicka 1996, p. 48–49, 274–286), – а также наглядно демонстрирует пути преодоления «семантического агностицизма», сформулированного, как часто утверждается, в работах позднего Витгенштейна и его последователей (Wierzbicka 1996, p. 237–257, 335).
Прежде чем переходить к обсуждению концепции, следует еще раз отметить методологическую близость изложенного подхода базовым постулатам генеративной теории. И утверждение о врожденном характере языковой способности, оформленной в виде некоторого lingua mentalis, и сама модель семантического описания, отсылающая к базовым постулатам Каца и Постала, описанным в предыдущей главе, наглядно демонстрируют генетическую связь мировоззренческих установок, лежащих в их основе.
Мы начнем обсуждение концепции Вежбицкой с вопроса о процедуре верификации сформулированных в ней утверждений, среди которых для нас интересны, в первую очередь, конкретные толкования отдельных лексем и фразем. Кажется, что такой процедурой должны быть либо объективные данные, аналогичные показаниям стрелки прибора в физике, либо (т. к. толкование представляет собой выражение значения слова через врожденные концепты, интуитивно ясные каждому человеку) реакция обычного носителя языка, который интуитивно должен воспринимать толкование Вежбицкой как истинное. Однако в работах Вежбицкой мы не найдем ни того, ни другого[59]. Следует заметить, что автор NSM-теории не придает описанию процедур верификации большого значения, но из замечаний, которые встречаются в ее работах, становится понятным, что в качестве критерия истинности толкования выступают сама Вежбицкая и круг людей, профессионально занимающихся лингвистикой, т. е. обычный носитель языка редуцируется до члена профессионального сообщества. В тех редких фрагментах, где ставится вопрос о критерии, Вежбицкая прямо называет интроспекцию главным методологическим основанием для получения результатов. Иногда (например, при обсуждении folk biological concepts) она говорит о необходимости проверки результатов опросами информантов, но конкретных алгоритмов такой проверки, которая сама по себе представляет методологически сложную процедуру, ей не предлагается[60].
Можно заметить, что и в этом аспекте позиция Вежбицкой тесно соприкасается с позицией Хомского. Представление об «идеальном носителе языка», выступающем в качестве главного критерия истинности сделанных утверждений, и неявное отождествление себя с таким носителем задают общую для данных исследователей методологическую рамку. Соответственно, и приведенные в предыдущей главе критические замечания Поппера, отказывающегося признавать подлинно научными концепциями марксистскую теорию истории, психоанализ и индивидуальную психологию А. Адлера из-за той легкости, с которой они могли проинтерпретировать в свою пользу любой экспериментальный факт, могут быть также распространены и на NSM-теорию. Обладая развитой языковой интуицией, профессиональный лингвист является еще и носителем определенной профессиональной идеологии, и его нельзя считать непредвзятым судьей созданной им же теории. При отсутствии независимых критериев проверки он всегда будет склонен скорее находить аргументы в ее защиту, чем ставить ее основания под сомнение. Пока критерием истинности теории, критерием соответствия экспериментальных фактов ее положениям выступает сам автор и его единомышленники, теория обречена на квазирелигиозный статус и ее объективная проверка невозможна[61].
Перейдем теперь к вопросу о мировоззренческих основаниях теории естественного семантического метаязыка. А. Вежбицкая отводит заметное место историческим истокам, теоретическому и эмпирическому обоснованию своей концепции, но в целом приводимая ей аргументация не снимает, а лишь усиливает высказанные выше сомнения. Опять же, в полном соответствии с позицией Хомского, мировоззренческие и методологические основания идеи семантических примитивов Вежбицкая находит в работах философов XVII века, однако, в отличие от американского лингвиста, делает акцент на работах Лейбница. Как она отмечает, мысль о проведении границы между определяемыми и неопределяемыми понятиями была крайне значима для многих мыслителей XVII века, и основной вопрос состоял в том, где проводить эту границу, каковы критерии неопределяемости, семантической простоты (Wierzbicka 1980, p. 4). Если для Декарта и Локка проблема выявления простых понятий снималась соображениями интуитивной очевидности, а Дж. Уилкинс настаивал на произвольности выбора «трансцендентальных частиц», лежащих в основе оптимального для коммуникации между людьми разных национальностей философского языка, то Лейбниц в поисках «алфавита человеческих мыслей» воспринимал задачу выявления таких понятий как крайне сложную проблему, но считал, что их выбор не может быть произвольным. Он полагал, что естественный язык – лучший ключ к языку мыслей и точный анализ значений слов лучше, чем что-либо другое, демонстрирует нам механизмы понимания. Вежбицкая называет Лейбница структуралистом par excellence и утверждает, что его идея минимального «ментального алфавита» – не только операциональный принцип, но и гипотеза о глубинной структуре человеческого мышления (Wierzbicka 1980, p. 4–7, 9–10, а также Wierzbicka 1972, p. 3–7; Wierzbicka 1996, p. 9–10, 11–13, 28, 48, 70–71, 212–213).
Следует отметить, что для мыслителей XVII века – философов, эксплицирующих онтологические основания своих лингвистических описаний, – представления о языке вытекают из представлений о мироздании и человеке в целом, и за описанным Вежбицкой «структуралистским» образом языка стоят вполне определенные онтологические и гносеологические основания, определенные парадигмы научности, образы космоса и человека. Прежде всего, это механистическое представление о человеке, характерное как для эпохи в целом, так и для Лейбница, прямым продолжателем семантических идей которого она неоднократно себя называет (напр., Wierzbicka 1980, p. 9–10; Wierzbicka 1996, p. 13).
Остановимся на мировоззрении Лейбница чуть более подробно. Одним из ключевых положений немецкого философа является концепция предустановленной гармонии, смысл которой состоит в следующем. Бог, создав наилучший из всех возможных миров, сотворил его таким образом, что различные природные объекты, сущность которых выражается различными монадами, не воздействуя друг на друга физически, тем не менее изменяются согласованно, чем порождают эффект непосредственного взаимодействия: «Но в простых субстанциях бывает только идеальное влияние одной монады на другую, которое может происходить лишь через посредство Бога, поскольку в идеях Божьих одна монада с основанием требует, чтобы Бог, устанавливая в начале вещей порядок между другими монадами, принял в соображение и ее. Ибо, так как одна сотворенная монада и не может иметь физического влияния на внутреннее бытие другой, то лишь указанным способом одна монада может находиться от другой в зависимости» (Лейбниц 1982 (1710), с. 421–422; пер. Е.Н. Боброва).
Аналогично душа и тело человека, обладая принципиально различной природой, что делает невозможным их реальное взаимодействие, влияют друг на друга идеально, действуя согласно закону предустановленной гармонии[62]. Как душу, так и тело Лейбниц неоднократно называет автоматами[63], т. е. машинами, которые содержат причину своего движения в самих себе[64]. Изложенные представления (душа и тело – сконструированные Богом автоматы, не взаимодействующие между собой) определяют созданную Лейбницем модель мышления, а также модель языка[65]. Так он пишет в набросках, озаглавленных в русском издании «Что такое идея?»: «… наличие в нас идей вещей не предполагает ничего другого, кроме того, что Бог, творец равно и вещей и ума, вложил в этот ум такую мыслительную способность, благодаря которой он мог бы, исходя из своих собственных операций, выводить то, что совершенно соответствовало бы выводимому из вещей. И если поэтому идея окружности и не будет похожа на окружность, все же из нее могут быть выведены истины, которые, без сомнения, будут подтверждать опыт обращения с реальной окружностью» (Лейбниц 1984 (1678), с. 109; пер. Г.Г. Майорова). Представляя мысли, точнее, набор идей, как полностью оторванную от практического опыта систему, Лейбниц не проводил различия между реальным и искусственным языком (напр.: Лейбниц 1984а) и опирался в качестве парадигмы научности на математические тексты, классическим образцом которых являются «Начала» Евклида. Отсюда его стремление к «алфавиту человеческих мыслей», к выявлению базовых постулатов, определяющих деятельность мышления: оно абсолютно органично вытекает из его общих мировоззренческих представлений.
А каковы общие представления о человеке самой А. Вежбицкой? Разделяет ли она утверждения Лейбница о предустановленной гармонии, о независимом существовании души и тела, об отсутствии качественных различий между искусственным и естественным языком? Или ссылки на Лейбница не носят принципиального характера, имея смысл лишь обращения к традиции, обозначения ее истоков? Но тогда какой образ мира и человека стоит за NSM-теорией? В отличие от Хомского, довольно отчетливо эксплицирующего в подобной ситуации свои онтологические ориентиры, прямых высказываний Вежбицкой на эту тему мне найти не удалось. Тем не менее, некоторые косвенные выводы можно сделать, анализируя предложенную ей интерпретацию другого массива текстов – работ по детской речи и по традициональным культурам (культурам архаических, или примитивных народов). Этот массив может служить, с ее точки зрения, экспериментальным подтверждением ее концепции. Обратимся к каждому из данных блоков, начав с работ детских психологов и лингвистов.
Сразу замечу, что ни исследования, на которые ссылается Вежбицкая, ни другие исследования детской речи не дают оснований утверждать существование врожденных базовых концептов в смысле Лейбница или Вежбицкой. Скорее, наоборот – весь собранный экспериментальный материал показывает определяющую роль контекста и социкультурной коммуникации в формировании навыка использования языка и, в первую очередь, овладения семантикой.