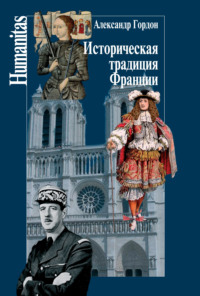Полная версия
Историки железного века
Фридлянд выступил одновременно против немарксистской и марксистской традиции. Он критиковал Матьеза, Кареева и его учеников, «ставших сравнительно недавно марксистами», конкретно Захера с его книгой о Термидоре[53]. Заострив свой полемический посыл против немарксистов – переворот был классовым конфликтом, а не конфликтом личных интересов среди монтаньяров – он поставил под вопрос и вторую традицию – о контрреволюционности переворота. Суть событий, предшествовавших перевороту, Фридлянд определил как «социальный кризис», в котором столкнулись две программы дальнейшего развития революции[54].
«Конечной целью одной, – доказывал докладчик, – было создание эгалитарной (“аграрной”!) республики, где торговля и промышленность играли бы лишь служебную роль», а другой – «создание индустриального государства и наилучших условий для капиталистического накопления в стране». Одну он оценил как «мелкобуржуазная, густо окрашенная аграрным утопизмом», «исторически-реакционная система», другую – «капиталистическая программа буржуазного авангарда». С одной стороны, Сен-Жюст[55] и Робеспьер, с другой – правые термидорианцы[56].
Опубликованный протокол заседания ОИМ, на котором Фридлянд изложил свою оценку 9 термидора, замечательно передает то замешательство, в какое он поверг коллег[57] (не случайно Кареев назвал оценку Фридлянда «еретической» по отношению к канону[58]). Как отметил С.М. Моносов, докладчик «атаковал» традиционно-марксистскую концепцию о контрреволюционности термидорианского переворота. И, как заострил вопрос С.Д. Кунисский – «Если якобинцы представляли собой реакционно-утопическую идеологию, то… те, которые выступали против них 9-го термидора, были силой прогрессивной и переворот 9-го термидора носил прогрессивный характер»[59].
В общем дискутанты требовали от докладчика поставить точку над i. Собственно Моносов принципиально был близок к докладчику и уже высказывал сходные мысли.
«Режим якобинской диктатуры, – писал Моносов, – не умел обслуживать интересов крупной буржуазии… Этот режим, поскольку он задерживал переход от феодализма к буржуазному способу производства, был реакционен. Он не отвечал потребностям объективного экономического развития»[60]. С той же «экономической точки зрения» Моносов подчеркивал роль якобинского утопизма в падении диктатуры: «Все попытки мелкобуржуазных якобинцев создать царство мелкобуржуазного равенства были утопией – колесо экономического развития повернуть назад было невозможно. Попранная экономика мстила за себя, в этом и заключался смысл событий девятого термидора»[61]. При такой позиции Термидор оказывался «частью революционного процесса» и даже «моментом обновления революции»[62]. Следовательно, у Моносова официальная установка о контрреволюционности переворота была еще более сомнительной.
Можно ли считать, что, прослушав доклад Фридлянда, его коллеги почувствовали необходимость более четкого самоопределения по отношению к «традиционной концепции», догмату о контрреволюционности термидорианского переворота? Возникла деликатная ситуация, и, похоже, сам докладчик по реакции коллег почувствовал, что увлекся. В стенограмме есть ссылки на разговоры в кулуарах, Фридлянд вынужден был дать разъяснения перед началом дискуссии, которые Моносов расценил как «второй доклад». Докладчик с негодованием отверг эту оценку, как и ссылку на то, что отреагировал на критику в «кулуарах», но упорная работа над подготовкой стенограмм доклада и заключительного слова (делающая их почти нечитаемыми) говорит сама себя. Замечательны и пояснения: «Я не хотел сказать, что… в реакционной утопии части якобинцев во главе с Робеспьером не было ничего революционного. Революционная часть была выполнена до весны 1794 г.»[63].
Фридлянд не собирался отступать, он был действительно упрямым, как отмечала Г.И. Серебрякова. Но мыслил достаточно гибко, предложив аудитории несколько альтернативных оценок: термидорианский переворот (первая) был действительно прогрессивным «с точки зрения капитализма»[64], хотя (вторая) «с точки зрения широких масс это было торжеством контрреволюции». Дальше Фридлянд высказал еще сугубо личную («нашу») точку зрения. Исходя из того, что пролетариат выразил свою позицию лишь выступлением «равных», по этой точке зрения (третья), «не 9 термидора, а день казни Бабёфа является кульминационным пунктом Великой революции конца XVIII в.»[65].
Пожалуй, наиболее симптоматичным ходом докладчика был очевидный отрыв политики от экономики. Фридлянд обвинил своих коллег в недооценке последней, в чрезмерном политизации проблемы, что и привело к отрицанию экономической прогрессивности поражения Робеспьера, между тем оно открывало дорогу «созданию индустриального государства и наилучших условий для капиталистического накопления». Политическую прогрессивность якобинской власти Фридлянд не решился отрицать.
Впрочем, и здесь докладчик не был оригинальным. В брошюре Колоколкина и Моносова экономико-политическая дихотомия выявлялась совершенно недвусмысленно: «Будучи революционерами в области политической, спасая и довершая до конца буржуазную революцию, якобинцы в экономической области могли выдвигать только реакционные проекты». И наоборот – «термидорианская буржуазия», «хищническая, спекулятивная, алчная», «политически реакционная», «представляла из себя авангард прогрессивного класса»[66]. Похоже, этот дуализм сделался уже среди историков-марксистов общим местом, и рецензент брошюры отмечал «совершенную бесспорность» вывода[67].
Именно отправляясь от политики, ниспровергатель вскоре совершил резкий разворот в сторону «традиции». «Марксистское положение о том, что мелкобуржуазная эгалитарная утопия Робеспьера – Сен-Жюста потерпела поражение 9–10 термидора в борьбе с подлинно-буржуазной программой контрреволюции, нередко толкуют как победу “прогрессивной” Директории над “реакционными” якобинцами»[68], – писал Фридлянд в предисловии к книге Эрдэ. Пришлось теперь, спустя всего три года (1928–1931), доказывать предпочтительность «мелкобуржуазного утопизма» перед буржуазной «подлинностью», а для этого вернуться на «орбиту террора, борьбы за власть и т. д. и т. п.», за пребывание в рамках которой он критиковал своих оппонентов в докладе 1928 г.[69].
Однако, вернувшись на орбиту канонической политизации, Фридлянд все-таки сформулировал положение, которое было известным отходом от традиционно-классовой оценки якобинизма. «Капиталистическое общество может развиваться и в обстановке полной демократии, – утверждал Фридлянд, – а не только цензового избирательного права и белого террора. С этой точки зрения (еще одной. – А.Г.) торжество якобинизма и его демократической республики не было бы торжеством реакции над прогрессом, а было бы подлинной победой демократии над строем “нуворишей” и режимом белого террора»[70]. Итак, при реакционности (экономической) диктатуры доказывалась прогрессивность якобинской «демократической республики». Видимо, как и у Фрейберг[71], Конституция 24 июня 1793 г. виделась путем к «полной демократии» капиталистического развития!
Эволюцию ученого, конечно, нельзя отделить от политических событий в СССР на переломе 20-х и 30-х годов, от яростной борьбы за установление единомыслия среди историков-марксистов, от становления канона, хотя «поправочки» Фридлянда к своей схеме, сделанные в 1931 г., все-таки очень плохо в этот канон укладывались, что вскоре и выяснилось. Капитализм и «полная демократия» в 30-е годы были навсегда и, казалось, бесповоротно разведены, свидетельством чему может служить и книга самого Фридлянда о Марате (1934).
Высоко оценивая демократизм «друга народа», автор усмотрел историческую ограниченность его политической программы: «Мелкобуржуазный теоретик XVIII века, если даже он и возглавлял плебейские массы, исторически не мог отдать себе отчета в перспективах гражданской войны, понять роль партии в этой борьбе, не мог противопоставить государственному аппарату старого порядка ничего, кроме идеала буржуазно-демократической республики»[72]. Этот идеал оказывается и предпосылкой концепции революционной диктатуры. У Марата она «опирается на теорию народного суверенитета, ее основой является всеобщее избирательное право и парламент»[73].
Идейные метания Фридлянда в оценках Термидора отчетливо передают уже выявившуюся к концу 20-х годов обреченность теоретических поисков с нагнетанием идеологической борьбы, сопровождавшей закрепление партийно-марксистского канона. Все же отдадим должное поиску: ученый обнажил уязвимость канонизированной оценки переворота и раскрыл противоречия политического курса якобинской власти, представив разнообразные свидетельства, в том числе едва ли не первый в мировой науке проанализировал под этим углом зрения протоколы «экономических» (промышленности, торговли, сельского хозяйства) комитетов Конвента.
В попытках преодолеть фатализм классово-формационной схемы обреченности якобинской диктатуры Фридлянд, Старосельский, а также Лукин ставили вопрос о том, что отдельными своими сторонами, некоторыми мероприятиями якобинской власти Французская революция выходила за рамки «классической» буржуазности; такой «выход» трактовался либо в плане «американского пути» (особо прогрессивный «демократический капитализм» в аграрном развитии, по Ленину), либо в перспективе «перманентной революции» (протосоциализм, по Энгельсу и Ленину).
Однако вскоре эти попытки были надолго забыты. Верх взяла линия партруководства на противопоставление буржуазной и социалистической революций, которая потребовала отказа от мало-мальски выраженного намека на аналогии. Страх перед обвинениями в «буржуазном перерождении» правящей партии сеял панику среди исследователей, поскольку подрывал исходную для советской историографии парадигму «революции-прототипа». Положение осложнялось тем, что и власть не могла всецело от нее отказаться.
Не скажу, что, помимо политической конъюнктуры, больше способствовало сближению Октябрьской революции с Французской – методологические задачи, потребность иметь точку отсчета в ретроспективной картине исторического развития либо особенности национальной политической культуры. Еще задолго до 1917 г. и даже до 1905 г. сложилось обыкновение (по понятным причинам не всегда явственное) «примеривать» развитие России по французскому образцу.
Обыкновение сделалось навязчивым после Октября, когда французский опыт стал средством революционного просвещения масс и легитимирования советской власти. Однако уже к концу 20-х годов перспектива «советского термидора», которую пророчили антисоветская эмиграция и внутрипартийная оппозиция, политически дискредитировала аналогии (борьба с «устряловской и троцкистской клеветой» относительно «перерождения» сделалась отчетной графой для научного начальства)[74]. Тем не менее установка центрального идеологического аппарата на отказ от «каких бы то ни было аналогий» была попросту невозможна, и потому практически любое обсуждение проблем якобинской диктатуры приходилось сопровождать торжественными заявлениями известного свойства.
Вот и доклад Фридлянда о 9 термидоре начинался и кончался отмежеванием от «каких бы то ни было аналогий». Правда, он и в данном случае постарался внести нюансы, подчеркнув, что борется лишь с «вульгарным аналогизированием», с «аналогиями внешнего порядка», т. е. поверхностными. По его утверждению, равно далеки от истины и такие «историки буржуазии», как Олар, доказывающие, что «наша революция ничего общего не имеет с Великой революцией» во Франции, и «радикальные историки», полагающие, что обе революции «тождественны», являясь «буржуазно-демократическими (курсив мой. – А.Г.)».
Советский ученый парировал доводы «радикалов» (троцкистов-устряловцев) характерным категорическим заявлением: «наша революция… не буржуазно-демократическая, а социалистическая». Многозначительная коллизия безапелляционно разрешалась в установочном порядке указанием на различие между «эпохой промышленного переворота» и «эпохой краха капиталистической системы», между пролетариатом и буржуазией[75].
Те же утверждения звучали в конце доклада Фридлянда неким ультиматумом аудитории: «Если вы найдете в основном правильными мои взгляды, вы решительно отбросите всякие попытки вульгарного аналогизирования; между социальными конфликтами 1794 года и социальной революцией ХХ в., между столкновением капиталистических элементов с носителями мелкобуржуазной утопии конца XVIII в. и классовой борьбой пролетариата и буржуазии наших дней лежит пропасть (курсив мой. – А.Г.)»[76].
Фридлянд так и не определил, какими могут быть аналогии «внутреннего порядка», а ультимативность заключения побуждает предположить, что шокировавшее коллег акцентирование «мелкобуржуазности», «утопичности» и «реакционности» якобинской диктатуры понадобилось в немалой мере для разрушения «внешней» аналогии между двумя революциями, т. е., в конечном счете, столь идеологически значимой на «путях к Октябрю» и в первое время после него аналогии «большевики – якобинцы». Очевидно, отказ от этой парадигматической аналогии давался не просто. Парадоксально при том, что отказ от апологии якобинской диктатуры и террора сопровождался трагической коллизией поступательного движения к Большому террору советской диктатуры.
Рубеж 20–30-х годов при наличии работ по отдельным сюжетам в целом незаслуженно «выпал» в отечественных исторических исследованиях, как бы затерявшись между коллективизацией и Большим террором. Между тем то был важный этап на пути от относительного идейно-политического плюрализма НЭПа к утверждению единовластия и единомыслия.
Подчеркнутая лояльность историков-марксистов партийному руководству не спасла их, когда идеологический фронт сместился и основными направлениями удара сделались именно Комакадемия, и историки-партийцы. В 90-х годах на фоне огульной декоммунизации и очередной реабилитации вождя в историю советской науки сталинского времени была вброшена нехитрая версия. Оказывается, виновниками репрессий против Академии наук были члены Комакадемии, обманувшие вождя своими обвинениями, а тот к середине 30-х разобрался и вернул к науке академиков, покарав самозванцев из Комакадемии[77].
Основной порок версии – полный отрыв от поворота в общественной жизни страны, начало которому определилось годом Великого перелома, а предпосылки стали очевидными примерно годом раньше во время поездки Сталина в Сибирь (1928), когда устами вождя обозначился возврат к «чрезвычайщине», к методам «военного коммунизма» и ликвидации НЭПа. Идеологическим следствием сделалась так называемая великая перековка, захватившая как историков «старой школы», против которых были применены методы уголовного террора, так и, с небольшим интервалом, историков-марксистов, подвергшихся партийным «чисткам» и «проработкам», превращавшимся в нравственное «избиение»[78].
Продолжая после «Академического дела» (1929) разоблачать «тарлевщину» и «платоновщину», историки Комакадемии были призваны партийным руководством разоблачать самих себя. Во всех общественных науках случилось то же самое, что произошло в аграрной науке, «приоритет» которой по части репрессий был обусловлен политикой «ликвидации кулачества как класса». Вначале на конференции марксистов-аграрников, происходившей под руководством архитектора коллективизации, разоблачали международно признанную русскую аграрную школу, затем те, кто разгромил по указанию Сталина «идеологов кулачества», принялись, пишет советский историограф, «отыскивать теперь уже у самих себя несуществующие ошибки чаяновского и сухановского толка»[79].
Выступая перед партбюро ИКП 9 декабря 1930 г., Сталин провозгласил задачу момента: «Бить по всем направлениям и там, где не били»[80]. Лидер историков-марксистов подхватил тему: «Если нам нужно ликвидировать кулака как класс, то надо ликвидировать и кулацкую идеологию». При этом «не должны обижаться те товарищи, которые оказались в тесном соседстве с нашими противниками». Под огнем оказывались всякие, говоря словами Покровского, идейные «примеси», «всякого рода переходные типы и переплетения» и те, кто уклонялся от участия в разоблачениях. «Нейтральных мы тоже будем бить»[81], – предупреждал «красный академик».
Началось подлинное самоизбиение. Уже при разоблачении «школ Платонова и Тарле» на печально знаменитом заседании Ленинградского отделения Комакадемии и ОИМ некоторые ученые, подвергшиеся начальнической критике, в свою очередь, стали обличать коллег. Так, Щеголев перечислил по именам «целую плеяду эпигонов русской школы» и предложил заняться другими «уклонами» вроде «некритического отношения к работам Матьеза». Досталось персонально Старосельскому и Фридлянду[82].
В начале 30-х программным выступлением вождя, непосредственно затронувшим историческую науку, явилось Письмо Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция». То был один из основополагающих документов, определивших становление идеологического режима в общественных науках и эволюцию советского историознания в сторону канонизации идеологических установок. Не случайно спустя десятилетия, уже во времена Оттепели, задумываясь о горькой судьбе отечественной исторической науки, ветераны говорили: «все началось с Письма»[83].
«Это было полное запрещение “инакомыслия” не только в политике, не только в истории партии, но и в науке вообще…. Мнения и оценки Сталина… надо было цитировать как высшее доказательство тех или иных фактов, событий, мнений, ничего не убавляя и ничего не добавляя. При цитировании слов Сталина запрещалось менять падежи и времена. Письмо… стало мощным инструментом в создании культа личности Сталина». При этом, отметил в своих воспоминаниях профессор истфака ЛГУ (1936–1951) Н.П. Полетика, в 1931 г. «только старые партийцы и умудренные жизнью дельцы» оценили Письмо как «манифест о самодержавии». «Нам остается лишь умиляться и благодарить, благодарить и умиляться перед образом Сталина», – говорил один из коллег Полетики по ленинградской газете[84].
В излюбленном риторическом жанре («разве не ясно?», «что тут дискуссионного?», «есть люди, которые в этом сомневаются?», «какие ему нужны еще документы?», «кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам?») вождь обосновывал важнейшее нововведение об «аксиомах большевизма». Это положения, которые не подлежат дискуссии, их дальнейшая разработка исключается[85]. Само собой, «аксиомами» оказались прежде всего высказывания генсека, цитаты Сталина, заметно потеснившие цитирование умершего вождя.
В начале 30-х «Письмо» явилось сигналом для очередной волны идеологического террора. В первую очередь она затронула, разумеется историков партии. Замечательна дневниковая запись С.А. Пионтковского о смятении, охватившем эту когорту, по его словам, «никогда ни в каких оппозициях» не состоявших: «все мы самым искренним образом преданы партии и вдруг мы оказались троцкистскими контрабандистами, фальсификаторами истории партии и большевизма. Ужасно трудно вести преподавательскую работу. На каждом шагу тебя ловят»[86].
Волна погромных «проработок» прошла по всему историческому «фронту», затронув судьбы десятков людей. Причем провокационную роль сыграл прием, уже использованный генсеком на конференции марксистов-аграрников. И после «Письма», как проницательно подметила А.И. Алаторцева, «отлично сработала недосказанность, недоговоренность» Сталина: «Историки сами заполняли паузы (т. е. лакуны. – А.Г.) именами своих коллег»[87].
Покончил с собой в ту пору Сергей Михайлович Моносов, среди историков-марксистов личность такая же яркая, как Фридлянд или Старосельский, жизнь и творчество которого ждут своего исследователя. Декан историко-философского факультета МГУ (1930–1931) и первый директор МИФЛИ[88]. По колоритному выражению Бориса Георгиевича Вебера[89], он был «меньшим террористом, чем другие». Совершил самоубийство в 1933 г., и, как уверял Вебер, не по политическим мотивам, а из-за несчастной любви.
Между тем немаловажный факт – хотя и оставленный профессором в МИФЛИ, Моносов был освобожден от должности директора, одновременно в Институте истории Комакадемии была создана специальная группа «по проверке учебника Моносова [С.М.] “Очерки истории революционного движения”», которая доложила о своей работе 23 марта 1933 г.[90]. И происходило все это, очевидно, за несколько месяцев до смерти (точную дату которой я не смог установить) и на фоне непрекращавшихся проверок в Институте истории и отчислений сотрудников МИФЛИ.
Вот в моем воображении и складывается цепочка трагических событий начала 30-х: шельмование Захера, арест Старосельского, тяжелое нервное заболевание Фридлянда, самоубийство Моносова… Многие историки-партийцы, говоря словами одного из них, почувствовали себя тогда «рыбой, выброшенной на мель»[91].
Тяжелым ударом по советской науке, предвещавшим переход к ее полной изоляции, оказался вынужденный разрыв с французскими историками лево-демократического направления Альбера Матьеза. Матьез поддержал протест 15 крупнейших французских историков, включая Сеньобоса, Ренувена, Саньяка, Карона, Сэ, Буржена, против политических процессов в СССР и в частности уголовного преследования Тарле. В ответ в том же 1930-м году последовало открытое письмо Матьезу советских историков из Комакадемии: Лукин, Старосельский, Моносов, Фрейберг, Далин, Кунисский, Завитневич, Авербух. Фридлянд написал Матьезу отдельное письмо, на которое тот ответил. Кроме того, последовали обличительные статьи Лукина и Фридлянда и не менее резкие Матьеза в своем журнале.
Поскольку Матьез выступил с критикой советских порядков, он тут же был провозглашен «антимарксистом», между тем еще в начале 1930 г., по жестким критериям Покровского (который признавал «100-процентными» марксистами лишь участвующих в строительстве социализма в СССР), французский историк «тянул» к 50 % «подлинности»[92]. Красноречивой была позиция Фридлянда. Самый, пожалуй, активный и эффективный популяризатор творчества французского историка написал в предисловии к изданию особо ценной (как он подчеркивал даже после разрыва) его работы: Матьез «вовсе не является марксистом, хотя часто говорит языком Маркса». Однако его книга «представляет ценнейший вклад в марксистскую историю Великой французской революцию»[93].
Оценим широту подхода – книга немарксиста получает высокий статус в рамках марксистской историографии. Вот при таком подходе и происходило сотрудничество «новой» и «старой» школ в советской историографии, ярким примером которого остались РАНИОН и судьба его сотрудников. Все изменилось с поворотом к террору, в данном случае совершенно непосредственно. Уголовное преследование ученых в СССР явилось предпосылкой разрыва международных научных связей.
В сущности, от начала и до конца последовавшая полемика[94] имела политическую доминанту. Как и в случае полемики с Оларом, советские историки защищали Советскую власть, в данном случае сказать откровенно – ее право на репрессии. И, подобно полемике с Оларом, это была, говоря современным языком, «контрпропаганда», при этом в методологическом отношении советские историки противопоставили Матьезу сектантское толкование учения Маркса.
Как уточняют современные французские исследователи, Матьез отвергал не марксистский метод, а его «догматические искривления»[95]. Подобно Карееву, французский историк признавал возможность различных исторических подходов и притом допускал использование «экономического материализма» и даже – в отличие от Кареева – классового подхода. Более того, и то и другое имело место в его собственных работах.
Декларации его оппонентов из СССР сводились к тому, что только марксизм обеспечивает научное познание истории и что существует лишь одна разновидность Учения, та, что господствует в СССР – учение о классовой диктатуре и правящей партии. Это, заявлял Фридлянд, «революционный, политически заостренный марксизм», руководство к действию[96].
Подобное приспособление исторического анализа к политико-идеологическим потребностям собственно и отталкивало Матьеза от советского марксизма. Он находил в «такой разновидности марксизма (un certain мarxisme)» подчинение науки «априорной догме», «понимаемой и применяемой на манер катехизиса». На обвинения, что он «отдает свое перо на службу французскому империализму», Матьез отвечал: «Сталин – ваш бог, вы его пророки», «вы не более, чем орудия в руках правительства» и «декорируете марксизмом свою капитуляцию»[97].
Оппоненты противопоставили Матьезу принцип партийности науки: Матьез «воображает, что он стоит выше классов и партий и служит одной лишь научной истине», а «мы утверждаем, что… историки всегда выполняют определенный социальный заказ, и чем крупнее фигура историка как ученого, тем ярче выступает в его работах его связь с определенными классами или политическими группировками»[98]. В такой классовой проекции оказывалось, что Матьез всего на всего «типичный представитель радикально настроенной мелкобуржуазной интеллигенции» и даже – какой изысканный стиль! – «является не более как рупором “взбесившегося мелкого буржуа”»[99].