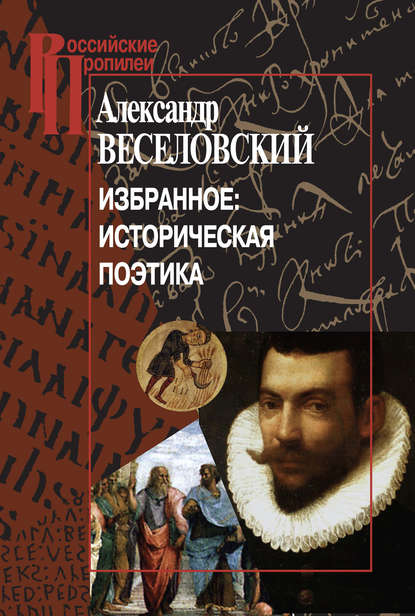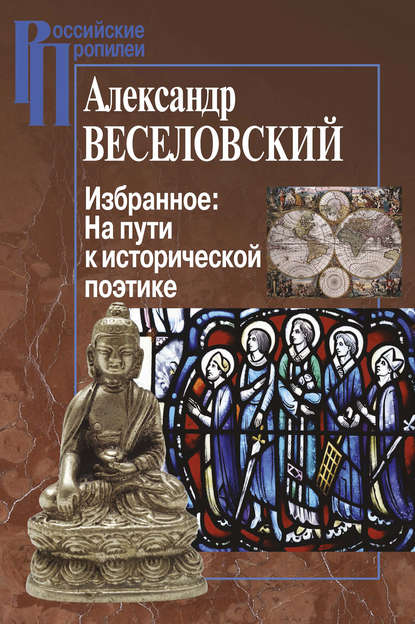Полная версия
Русская классика, или Бытие России
После колоссального выброса энергии, длившегося с 1917 до середины 50-х, русский народ не выдвинул ни одной мессианистической доктрины и не воспринял таковой. Основная идея, начиная с Хрущёва, – жить не хуже, чем в Европе и Америке («догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока и масла!»). Исчезли страх перед государством, а также любовь к нему. Уже в 70-е годы в передовых слоях интеллигенции развивается апология частной жизни в противовес коллективно-государственной. А интеллигенция в России задает направленность социально-общественного движения. Октябрьская революция явилась, как полагают весьма многие, результатом усилий русской интеллигенции и русской литературы. Именно поэтому, так говорят теперь, революция семнадцатого года была великим порывом и прорывом к светлому будущему, пусть даже не состоявшимся. А в наши дни торжествуют мещанин и спекулянт безо всяких идейных запросов. Но надо сказать, что и нынешний перелом связан с полувековым (если не больше) стремлением русской интеллигенции (диссидентство и вся потаенная, тамиздатовская и самиздатовская литература) вернуться на тот путь европеизации, с которого она сама помогла сойти России в 1917 г. Именно это и происходит. Причем с невероятной активностью. И характерно, что нынешние радикалы – националисты и неокоммунисты – мечтают не о новых победах, а пытаются сохранить хоть что-либо из старого. Речь идет не только о территориальных потерях и приобретениях, но и об идейно-духовном наследии, которое, как им кажется, полностью отвергнуто.
На мой взгляд, это совсем не так. «Чистый» национализм в России никогда не работал, но всегда облекался в идеи всемирности. Только в этом случае можно было ощущать себя носителями высшей истины (будь она идеей Третьего Рима или пролетарского интернационализма – все равно) и испытывать превосходство над непоследовательными, а потому и враждебными иноземцами. И этот основной архетипический механизм культуры, определявший ее ментальность, остался прежним. Его можно назвать склонностью к заимствованию или тягой к всечеловечности, понимавшейся Достоевским как способность к целостному восприятию всей европейской культуры. Только нынче всемирные идеи другие, ибо изменилась ценностная ориентация и геополитическая структура мира, – идеи открытого общества, рыночной экономики, – которые, хоть и в диковатом российском исполнении, уже не ведут к изоляционизму, ибо разрушают жупел «вражеского окружения».
Что же дала эта новая мировая идея? Государственность в коллапсе, а гражданское общество еще не состоялось. Зато слышатся песни бардов: «Теперь толкуют о деньгах!» И правда толкуют. Пропагандируют впервые в истории не верную службу, а умение работать на себя. Забыв о «светлом будущем», все хотят быть уверенными не в послезавтрашнем, а завтрашнем дне. Но пока по-прежнему живут «настоящей минутой». Слишком укоренен страх перед непредсказуемыми действиями государства, на первый взгляд, бессильного, но при том вполне замещающего собой гражданское общество. Точнее сказать, оно бессильно в области защиты человеческой личности, а также потеряло власть и желание принуждать граждан к труду, но как прежде всесильно в своих помехах развитию независимой от него экономики.
Государственные структуры хотят все так же контролировать экономику, чтобы собирать с нее жатву удушающих налогов и взяток. От этой неопределенности в нашей жизни царит попрежнему беспредел, не регулируемый даже идеологией. Избавленное от коммунистических и партийных обязательств и прикрытий, российское троекуровское хамство стало откровенным. Властные структуры воруют, как никогда прежде в России чиновники не воровали. Население растерянно, как больной после гипнотического сна. К работе больше не принуждают, а по-другому еще надо научиться. Поэтому в глазах агрессивность, безумие и тоска по палке, заставлявшей что-то делать. Личность другого все так же ничто. Более того, те структуры, где всегда сохранялось (более или менее) личностное начало, то есть научные структуры, планомерно уничтожаются. Зачем это делается? Видеть в этом влияние ЦРУ, желающего вытолкнуть Россию за пределы стран, способных к творческому развитию, – нелепо. Я полагаю, что именно нынешней власти не нужно сохранения сообщества людей, способных к самостоятельной мысли.
И вместе с тем растет поколение (после двух-трех «небитых» поколений – с середины 50-х годов прошлого века), которое не связывает свои надежды на устроение жизни с государством, полагаясь прежде всего на личные усилия, ум, талант, умение и ловкость. Оно жаждет независимости, но что из него получится, выйдет ли оно из стихии спекуляции к организации производства отечественных товаров – Бог весть! Научиться работать самостоятельно, без государственного принуждения – задача исторической важности и невероятной сложности. Разрешима ли она? Ясно, что открывшийся путь – это путь не в райскую жизнь, не в светлое будущее, а в очень непростой, не менее жестокий, чем прежний (хотя по-другому), но все же свободный мир. Выдержит ли эту свободу привыкшая существовать по закону военного времени – закону «палки», закону принуждения – российская ментальность?.. Можно ли тут предсказывать?
6. Отказ от мифологем – путь к взрослости культуры
Во всяком случае, очевидно, что многие черты, характеризовавшие до сих пор нашу ментальность, бледнеют, стираются, уходят в прошлое. Исчезает постепенно психология окруженной данайцами Трои, а соответственно проходят и чувства изолированности и «законной гордости», мессианизма и хилиастического будетлянства. Становятся предметом рефлексии национальные мифы – прежде всего о соборности: по мнению С.С. Хоружего, понятие соборности, оформившееся в трудах А.С. Хомякова, никогда не отождествлялось им с общинностью и другими сходными понятиями, ибо соборность – дело не мирское, а Богочеловеческое и благодатное. «Однако же, – замечает он, – в скором будущем эту грань с пугающей легкостью разучились видеть – а потом научились отрицать. Соборность неуклонно, все сильнее и откровеннее заземлялась, лишалась благодатного содержания и низводилась до простого социального и органического принципа: в известном смысле, этот процесс – сама суть идейной эволюции славянофильства… В этом процессе вырождения пути соборности перекрещивались с путями социалистической идеи… Поэтому в той же нисходящей линии оказываются, в конце концов, и все коммуноидные вариации на темы коллективизма, совпатриотизма или нацбольшевизма»[44]. Но также и об особом пути (после снятия железного занавеса можно было убедиться, что путь каждого народа – особый, и все народы по-своему выходили и продолжают выходить из варварских структур безличного коллективизма); о государственности, якобы присущей русскому народу по самой его сути; об общинности, которая, как подтвердил опыт нынешнего столетия, есть не что иное, как фискально-государственный способ держать народ в беспрекословном подчинении (один отвечает за всех, а все за одного – из этой формулы не вывернешься): колхозы, заводские коллективы, бесчисленные партячейки с их принудительным подчинением личности так называемому коллективному решению, а на самом деле – решению начальства…
Один из отечественных современных как бы инакомыслов (Александр Зиновьев) заметил, что нынешняя Россия становится и скоро станет столь же скучной, как Бельгия и Голландия. Пока не заметно. Да и то сказать: такой скучной жизни Россия еще не испытывала, она для нее в диковинку, а потому на ближайшую сотню лет и не скучна. Трезвость и благоразумие – это пока для нас нечто новое и необычное. Да уже и хватит, пожалуй, интересовать мир своими бедами и трагедиями, гордясь ими как знаком отличия от других. Во всяком случае, мечты о «красивых и возвышенных» трагедиях – удел людей сытых и жестокосердных, желающих любоваться пожаром извне горящего дома: что-то от психологии Нерона, сжегшего Рим. Россия, конечно же, остается Россией, а российская ментальность – российской ментальностью. И российские проблемы, трудности и особенности никуда по взмаху волшебной палочки не денутся. Но, возможно, завершается, наконец, затянувшийся период детства культуры, уходит инфантильность, «подростковость», наступает зрелость, «взрослость»… Быть взрослым нелегко, больше ответственности, но это и некоторая гарантия от самоубийственных и жестоких поступков, свойственных молодости.
Становление
IV. Петра творенье, или Разгадка России (Явление Пушкина)
Многие наивные и непоследовательные люди думают, что можно отвергнуть Петра и сохранить Пушкина, что можно совершить разрыв в единой и целостной судьбе народа и его культуры. Но Пушкин неразрывно связан с Петром, и он сознавал эту органическую связь.
Н.А. БердяевВступление. «Взглянул на мир я взором ясным»
Столько слов, сколько сказано в России о Пушкине, наверно не сказано ни о ком. Ни о ком больше в России не говорилось так взахлеб и с восторженностью, доходящей постепенно до банальности: «наше всё» (А. Григорьев), «России первая любовь» (Тютчев), «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» (Гоголь), «явление пророческое, тайна, которую мы до сих пор разгадываем» (Достоевский), «Пушкин – золотое сечение русской литературы» (ТерцСинявский). Правда, на Западе русскими по духу называются по преимуществу Толстой и Достоевский, они предмет подражаний и исследований. Более того, по наблюдению весьма умных русских людей, для европейцев, ищущих почвенности и экзотики, Пушкин недостаточно русский. Да и сам о себе поэт говорил: «Бывало, что ни напишу, // Все для иных не Русью пахнет» («Дельвигу», 1821). Так что людей с Запада можно понять. Сошлюсь на наблюдение прожившего в Германии бόльшую часть жизни выдающегося отечественного мыслителя: «Разговаривая с иностранцами, прежде всего с немцами, знающими русский язык и читавшими Пушкина, я часто встречался с мнением, что он, конечно, величайший поэт, но что в нем мало типично русского. Это глубоко неверное и русскому человеку непостижимое суждение объясняется тем, что в Германии за подлинную Россию считают прежде всего Россию Толстого и Достоевского»[45].
Почему так? Впрочем, понятно. От России ждут тайны, загадки, всех пленяют тютчевские строки, что «умом Россию не понять», что «нет в творении творца и смысла нет в мольбе». Так и должны рассуждать дикари, неевропейцы, это должно быть то место, где можно отдохнуть от рацио и послушать затейливую мифологическую историю – вроде тех, что рассказывались в Обломовке маленькому Илюше про Ивана-дурака, который живет без труда и без труда же преобразует окружающий мир «по щучьему веленью, по своему хотенью». Не случайно, по словам Хомякова, именно «русским можно лучше других народов Европы понять переход саг (сказаний) в мифы. Мы еще недавно вышли из эпохи легковерной простоты и затейливой сказочности»[46]. А европейские почвенники видят в России пример, как можно избежать вестернизации. По мнению западных романтиков, «русские, и Толстой, и Чехов, и Тургенев, и тот же Достоевский, – буддийские “нигилисты”, они хотят от личности самоотречения, они любуются нирваной, они опасны своей волей к небытию, своим восторгом перед безличием и бессознательностью первозданной природы. О русском “буддизме” писали и пишут. Начало ведется от Вогюэ, который и после книги своей о русском романе по новым поводам напоминал, что “буддизм” – это разгадка русской души и русской культуры»[47]. И сколько наших самобытников подыгрывали такому представлению о России – от Тютчева вплоть до Белова и Распутина! И вперекор этим представлениям – страстная, очень личная, почти декартовская фраза Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Таким не умилишься – он равноправен, он чувствует и думает как Шекспир, Данте, Гёте!
Любовь к слабому рассудком члену рода человеческого, быть может, умилительна. Но, быть может, и оскорбительна. Но уж, конечно, она неприменима к ясному Пушкину, который не раз заявлял, что «на поприще ума нельзя нам отступать»[48], который по-гамлетовски говорил о себе: «Мой ум упорствует, надежду презирает…// Ничтожество меня за гробом ожидает…// Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь! // Мне страшно…» («Надеждой сладостной..», 1823), который по сути дела объявил себя пророком, которому внятно всё:
И внял я неба содроганье,И горний ангелов полет,И гад морских подводный ход,И дольней лозы прозябанье.Более того, утверждал, что может изложить свое понимание мира ясно и четко:
И вырвал грешный мой язык,И празднословный и лукавый,И жало мудрыя змеиВ уста замершие моиВложил десницею кровавой.Итак, Запад не желает принять Пушкина за то, что он европеец, что он с Западом – на равных, что «равным был неравный спор». Легче принять нечто чудесное. Как Россия искала на Западе «страну святых чудес», так точно Запад подобные чудеса нравственной и социальной гармонии, подлинной общинности или чистого христианства (скажем, Гакстгаузен или Рильке) думал найти в России. Пушкин этим упованиям не отвечал. Слишком он был реалист.
Как же он оказался центром и истоком великой русской литературы, этот «нерусский поэт»? Но вдумаемся в этот парадокс: ведь самое поразительное, что последующая русская литература тоже искала в Пушкине какой-то тайны, изменяя на каждом шагу его заветам. Ее удивляло, как можно хранить ясность, при этом выразив народный идеал, – нечто, чему рационального определения не мог дать ни один почвенник. Ведь не считать же национальным идеалом христианство, если говорить всерьез, ибо обращено оно ко всем землям и всем народам. Конечно, если православие – религия почти племенная (как иронизировал Чаадаев), то нельзя ли Пушкина сделать таинственным племенным божком, которого потому Запад не чувствует, что он – «истинно русский», «истинно православный»? Уже в эмиграции было замечено, что «в наши дни родилось стремление соединить и сблизить Пушкина с православием. Операция проходит почти безболезненно, поскольку над Пушкиным, по уклончивости его, удаются вообще всякие упражнения»[49]. Но для этого необходим был откат от Пушкина, превращение поэта в кумира, что означало отречение от сути им содеянного, ибо вело к идолопоклонству, отринутому еще Библией. И закономерно приводило к отказу от реального Пушкина, продолжателя духовного роста России, начатого Петровским деянием. До Октябрьской революции заметил это, пожалуй, один Мережковский: «В сущности, Пушкин есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об участии русского народа в мировой культуре, который задан был Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию. Возвращаясь к первобытной, христианской и народной стихии, особенно в своих крайних и односторонних проявлениях – в презрении к науке у Льва Толстого, в презрении к “гнилому Западу” у Достоевского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому началу мировой культуры, которое было завещано двумя одинокими и непонятыми русскими героями – Петром и Пушкиным»[50].
Русские писатели понимали Пушкина как недосягаемый идеал, но не желая принять его ясно выраженную позицию, объявляли его явление тайной и чудом. Пушкин не был признан при жизни. Свидетельств тому много[51]. Но и после смерти задача была одна – не следовать за мыслями гения, а пытаться приспособить их к своему антиевропейскому (и в этом смысле очень Западу выгодному) миропониманию. Не будем говорить о поиске «народных идеалов» у Пушкина Достоевским (великий писатель противоречив, и часто восхваляет то, что только что проклинал, – Петровскую реформу, пушкинский европеизм), посмотрим там, где выговорена эта аксиома простодушно и ясно: «Пушкин проникся всем духом просвещения европейского и вступил в борьбу с ним. Он понял, осмысленно воспринял все, что было в Европе великого, но не подчинялся ничему. Он перевоплощался в европейца, по выражению Достоевского, но с тем, чтобы снова выйти из этого “перевоплощения” самим собой. Он противопоставил миросозерцание народное, воплощенное в созданиях дивной красоты, миросозерцанию европейскому, тогдашнему байроновскому нигилизму, из которого и пошло все дальнейшее в Европе.
<…> Он угадал, что сущность европейского миросозерцания заключается в разорванности личности с действительностью – и в своих народных началах нашел почву для примирения»[52].
Да-да, в этом и заключается его тайна для наших националистов – ведь не мог европеец стать подлинно величайшим русским писателем. Этого же не хотят признать и ненавистники России, что такая дикая страна могла породить абсолютного европейца, не подражающего, а равного высшим проявлениям европейского духа. Услышим ли тоскливый вздох Вейдле?.. – «Европа восхищается воспринятой на азиатский лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, поизломанней… А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только Пушкина ей дал, но и Данте, и Шекспира, и Гёте, – а потому и Гоголя, и Толстого, и Достоевского»[53]. Пушкин ничего не скрывал, был открыт, как никто. А все равно у Достоевского упрек поэту, что, мол, унес в могилу некую тайну, которую мы принуждены теперь пытаться как-то раскрыть. Мнение о загадочности пушкинской лиры остается расхожим до сих пор. Об этом не без иронии – Абрам Терц (Андрей Синявский): «Весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в абсолютной доступности истин, им провозглашенных»[54] (курсив мой. – В.К.).
Да мало того, что европеец! Еще и Негр! Да к тому же – эфиоп. Какая пожива для ксенофобов. Сейчас уже не решаются об этом, а ведь Булгарин публично, печатно старался оскорбить Пушкина, назвав его мать «мулаткой» (по Л.Н. Гумилёву – «химерой», бесплодной и уничтожающей ту культуру, в которой появилась), а про прадеда сообщив, что тот был какой-то негритенок, купленный шкипером за бутылку рома. И гордясь своим шестисотлетним дворянством (по отцу), Пушкин никогда не отказывался от себя и от своего арапского происхождения («Мой арапский профиль!»)[55]. Потому и от Родины не отказывался и мог в своем последнем письме Чаадаеву (от 19 октября 1836 г.) написать: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (10, 310). Но именно потомок арапа Ибрагима, поэт Пушкин сказал о себе и о принявшей его предка родине то, что является разгадкой России. Слишком по-европейски верил он в силу мысли[56], которая объясняла ему мир и вела к творчеству:
В уединении мой своенравный генийПознал и тихий труд, и жажду размышлений.Владею днем моим; с порядком дружен ум;Учусь удерживать вниманье долгих дум;Ищу вознаградить в объятиях свободыМятежной младостью утраченные годыИ в просвещении стать с веком наравне.Богини мира, вновь явились музы мнеИ независимым досугам улыбнулись;Цевницы брошенной уста мои коснулись…И этот мир, постигнутый разумом, он изобразил по возможности ясно, и наша задача увидеть это изображенное в той же реальной перспективе, в какой писал его поэт – без мистики и суеверного иррационализма.
1. «Арап Петра Великого»
В «Романе в письмах» пушкинский герой заметил, что «семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа». В этом смысле жизнь поэта, его стихи и проза стали по сути национальной автобиографией, ибо его семейственные связи есть не просто факт русской истории, а формула ее развития. В этом качестве и должно нами восприниматься его творчество, которое есть его автобиография.
Что же самое важное для нас в истории Пушкина? То, что он поэт, и то, как он стал поэтом. Таким поэтом. Национальной гордостью. Начнем с того, что вдохновительницей поэта, образовавшей его музу, да просто его музой была славянофилами назначена его няня (от И. Аксакова до В. Непомнящего). Это мнение и в школьных учебниках закрепилось. Приведем первоисточник, то есть Аксакова: «От отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, “наш Байрон” притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедовать свою нежную привязанность – не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к “мамушке”, к “няне”, и с глубокой искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу… Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это – няня, это простая русская деревенская б а б а!..»[57]
Задумаемся, однако, что подобные же деревенские бабы, сидевшие у тысяч барчат в допетровской, да и послепетровской Руси, хоть та же нянюшка фонвизинского Недоросля, обожавшая свое «дитятко», не вложили им в душу и миллионной доли – не таланта, нет, на это никто не способен, кроме Бога, но пушкинской глубины, широты, всеотзывчивости, не научили их даже толком говорить и писать по-русски. Сами были неграмотны. Фальшивым образом Аксаков относит стихи «Наперсница волшебной старины…» (1822) об учившей поэта старушке-музе к Арине Родионовне, которую поэт и впрямь любил, но музой не называл никогда.
Друг вымыслов игривых и печальных,Тебя я знал во дни моей весны,Во дни утех и снов первоначальных.Я ждал тебя; в вечерней тишинеЯвлялась ты веселою старушкой,И надо мной сидела в шушуне,В больших очках и с резвою гремушкой.Ты, детскую качая колыбель,Мой юный слух напевами пленилаИ меж пелен оставила свирель,Которую сама заворожила.Младенчество прошло, как легкой сон.Ты отрока беспечного любила,Средь важных Муз тебя лишь помнил он…Эти стихи обращены к его бабушке – Марии Алексеевне Ганнибал, которая, по словам биографа (П.В. Анненкова), «была женщина замечательная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи»[58]. Она-то и возилась с маленьким внуком, помогая своей дочери Надежде Осиповне.
А няню, няню он любил, и сказки ее слушал. Но уже в Михайловском – зрелым поэтом, когда европейское образование дало ему понятие о значении и важности народной поэзии, фольклора (от европейских романтиков). О музе его мы скажем дальше. Но свою духовную биографию поэт вел все же не от няни и тем более не от Пугачёва. Только сэр Вальтер Скотт мог изобразить разбойника Роб Роя, но никто из его сподвижников даже и подумать о таком не мог. Только дворянский поэт Пушкин смог изобразить Россию от Петра до Пугачёва. А няне… Что ж, няне он писал, писал с любовью, усмехаясь на свое одиночество, на лишение дружеского и понимающего круга людей своего уровня, отнюдь не предпочитая ее общество лицейским друзьям или обществу Чаадаева, Жуковского или Вяземского:
Но я плоды моих мечтанийИ гармонических затейЧитаю только старой няне,Подруге юности моей…Не от хорошей жизни, как мы знаем, написаны эти строки. И это ясно из продолжения строфы. Чтение стихов няне находится во вполне ироническом контексте, в определенном ряду. Продолжим знаменитую строфу:
Подруге юности моей,Да после скучного обедаКо мне забредшего соседа,Поймав нежданно за полу,Душу трагедией в углу,Или (но это кроме шуток),Тоской и рифмами томим,Бродя над озером моим,Материалы для биографии А.С. Пушкина. М.: Современник, 1984. С. 41.
Пугаю стадо диких уток:Вняв пенью сладкозвучных строф,Они слетают с берегов.Если не няня (т. е. не народ), то кто образователь поэта? Как мог потомок негра, с точки зрения любого шовиниста чужой русскому народу во всех смыслах – и из образованных классов, и просто иной даже не нации, а расы – выразить дух и смысл России? Пушкин – показатель петровской удачи по привитию европейской культуры, которая была проведена вполне разумно, несмотря на охи славянофилов: «Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались спешно, без критики, выписанные изза границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык, – все было искажено, изуродовано, изувечено»[59]. Вглядимся в судьбу пушкинского прадеда, как понимал ее сам Пушкин, оценивая в ряду проводимых Преобразователем реформ как выражение того же духа и принципа. Пушкин прекрасно понимал, что Петр вкоренял своего, получившего образование во Франции крестника-негра, пришлого и чужого в этой стране, в русские боярские роды, прививал его к русскому стволу, как европейскую культуру, европейскую науку, европейский тип жизнеповедения – России. Результат этой прививки – величайший русский поэт, не тайна, а разгадка России.
Вот какие слова Пушкин вкладывал в уста своего главного героя – Петра в первой своей повести «Арап Петра Великого»: «Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством» (5, 36).