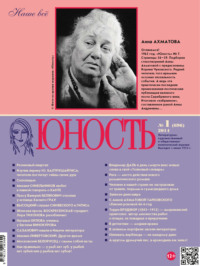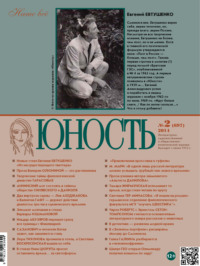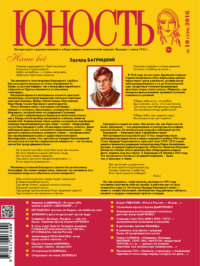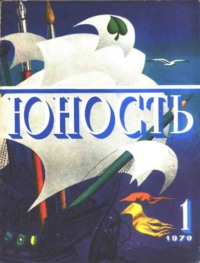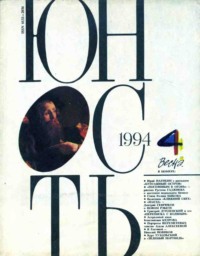Полная версия
Журнал «Юность» №03/2020
Были времена, когда дед выпивал, тогда он, поймав нужную волну, подолгу рассказывал мне длинные фантастические истории из своей жизни.
Сначала дед был в большом спорте: с водкой, застольями, драками, проигранными машинами. Благо, работая бригадиром на строительстве котельных, он имел для этого все ресурсы. Затем, когда его четырнадцатилетний сын пообещал спустить деда с лестницы, если тот еще раз придет в нетрезвом состоянии домой, дед зашился. На десять лет. Жизнерадостности при этом не растерял.
Сын подрос, женился, начали появляться внуки. Дед дождался ранней пенсии и вернулся в игру на легких условиях: после обеда он шел в магазин и брал пять бутылок пива «Балтика 9», которые выпивал в течение длинного вечера. Когда пустые бутылки заполняли весь балкон, дед брал меня, и мы шли сдавать их, на вырученные деньги покупали полные бутылки.
Каждую неделю в воскресенье меня с остальными детьми отправляли к бабушке с дедушкой. Насладившись фирменной жареной картошкой от бабули (фирменной она была из-за обилия подсолнечного масла – дома такую не готовили) и мультфильмом про человека-паука, я шел к деду на кухню, чтобы послушать его героические истории.
Если на второй бутылке дед мог быть артиллерийским лейтенантом, то ближе к пятой он сам себя повышал до гэрэушного майора. «Помню, высадились мы в Афганистане» – типичное начало истории. «После этой операции мне еще Героя Советского Союза дали», – опережая события, продолжал дед. «Седой, а звезду покажешь?» – заинтригованно спрашивал я. «На старой квартире остались. Железяки все это». Я верил, не догадываясь, что сюжеты для своих историй дед брал из сериалов, которые смотрел в течение недели. Готовился.
Уже в детстве я обращал внимание на некоторые несостыковки, но дед их филигранно нивелировал. Конечно, он мог рассказать мне, как стройбатовским сержантом дембельнулся прямо в тюрьму, но вряд ли бабушка оценила бы такую искренность. О том, что он три года сидел, она мне, стесняясь, рассказала в присутствии деда, когда я вернулся из армии. Старики не знали, что эта информация была давно открытой в нашем доме.
Как-то раз дед не стал дожидаться, когда нас заберут родители, и под суетливое ворчание бабушки упаковал нас в свою «Волгу» (тогда у него была «Волга»), чтобы отвезти домой. Мы любили его огромную белую «Волгу» с кожаным диваном сзади. Сюрприз не удался. По дороге нас остановил милиционер и после короткого разговора с дедом сел за руль, приказав деду сесть на пассажирское. «Дядя, а почему вы везете нас домой?» – поинтересовался я, глядя на огорченного деда. «Потому что ваш дедушка неправильно себя повел, – ответил он мне и презрительно добавил деду: – Стыдно должно быть». Я не понимал, почему дед терпит подобный тон. Стыдно должно было быть милиционеру.
Деда лишили прав на три года, но, что хуже, на несколько месяцев нам запретили навещать бабушку с дедушкой. Чертов милиционер!
«Газелисты совсем оборзели!» – выругался дед, засовывая бычок в пепельницу, которая стояла на неиспользуемом (когда-то сорванном) ручнике. Впрочем, сигналить он «газели», подрезавшей нас, не стал. «Кто вообще идет работать водителем “газели”?» – поддержал я любимую тему деда. «Кто… козлы!» – среагировал дед. Я засмеялся.
Я часто смеялся в присутствии деда. С ним я чувствовал себя хорошо и спокойно. Я знал, что если прямо сейчас мы вылетим в кювет, дед не будет паниковать, а просто скажет что-то типа: «Давно надо было отвезти это корыто на помойку», а когда мы выберемся из машины, добавит: «Бабке не говори, что в Москву опоздал».
Сколько себя помню, бабушка всегда была недовольна дедом. Раньше много пил, даже гулял, говорят; теперь много курит и сидит в своей «проклятой машине». Бабушка могла без остановки пулеметной очередью высказывать деду свои претензии: молоко он не такой жирности купил, воды привез на баклажку меньше, кухня вся прокурена, вонючие кошки в гараже, документы на машину просрочены, а он дал ее мне… Дед курил и слушал все это как радио, что звучит у него в «жигулях», даже не оглядываясь в ее сторону. Когда вторая подряд сигарета кончалась, дед с улыбкой говорил: «Я хоосий, ба!» и уходил к телевизору – реклама кончилась.
– Седой, ты, наверное, меня на повороте высади, чтоб не кружиться там, – вспомнил я о толкающихся автобусах на нашем маленьком вокзале.
– А я никуда не тороплюсь. Покружимся.
– Ну как знаешь.
– Ага.
Друзья и сослуживцы у него умерли. Из дальних родственников он ни с кем не общался. Иногда в городе попадались мужики, с которыми он строил котельные, но он всегда как-то без интереса с ними здоровался. «Ладно, пойдем мы. Внуку мороженое надо купить», – прощался он, крепко пожимая руку. Рука у него была крепкой до самой смерти – сухая и длинная, – я любил ее жать и пытался соответствовать.
Окончательно пить он перестал после той истории с двухсторонним воспалением легких. Тогда я учился в своем первом университете, который к тому времени еще не успел бросить. Приехал из Москвы навестить его. На третьем этаже больницы я назвал нашу с дедом фамилию. «Елисеич, что ли? – слишком радостно ответил мне врач. – В пятой палате его найдешь». Дед занял самую козырную койку в палате – у окна.
– Здорово, Седой! – жал я ему руку дольше обычного.
– Ого, ты чего здесь? – улыбался дед.
– Тебя приехал навестить.
– Да хватит, что ль!
– Ваш чай, товарищ полковник! – раздался мужской голос за спиной.
Дед не подал вида, что это к нему.
– Горячий, с пятью ложками сахара, как и просил. – Обойдя меня, мужик в больничном халате поставил на полку деда алюминиевую кружку.
– Ага, – сдался дед.
Я не стал делать удивленного лица. Мне ли не знать военных подвигов деда.
– Внук? – не отставал мужик.
– Внук-внук. Иди уже, – скомандовал дед, привставая.
– Хорошие у тебя условия тут, – улыбнулся я деду.
– Да ничего, ага.
Я уехал обратно в Москву делать вид, что учусь, а дед остался в больнице делать вид, что лечится.
Условия в этой больнице если и были хорошие, то уж точно не в плане санитарии. Седой от кого-то подхватил туберкулез, и мой отец против воли деда перевез его в другую клинику.
Помимо прописанных таблеток, дед принимал и горячительные напитки вместе со своими соседями-туберкулезниками. «Все равно помирать, так хоть весело». Дед не просил ему что-то привозить – все, что ему было нужно, ему поставляли младшие по званию. Они все делали по первому зову – не каждый день лежишь с таким авторитетным и жизнерадостным больным.
Вместо положенного года дед отлежал в больнице четыре месяца и вернулся домой. «Ненавижу врачей. Лучше дома помру». Главврач полюбил деда и на прощание сказал ему: «Елисеич, если не хочешь помереть, как эти, то завязывай». Дед задумался.
Бабушка проявила свой до этого не проявляющийся характер жены декабриста и лечила его что было сил, не отходя ни на минуту. Заразиться не боялась и, как и прежде, спала с ним в одной кровати. Болезнь ушла вместе с желанием выпивать. Не хотелось умирать, как эти…
На смену неожиданно заступил его сын. Развелся, пусть и неофициально, с женой и начал в ежедневном режиме пить, как конь из ведра. Дед и в лучшие свои годы так не употреблял. В какой-то момент живущие рядом с сыном бабушка с дедушкой переехали к нему – присматривать. Теперь дед ходил за водкой сыну. Трясся на кассе, брезгливо укладывал бутылки в пакет и шел похмелять так похожего на него сына.
Как сейчас помню: омерзительно пахнущая кухня, на столе стоят пустые бутылки, немного покусанной еды, куча таблеток и пузырьков, бабушка, отгородившись от нас огромной спиной, мешает в стакане водку с водой для моего папы, который уткнулся головой в забытые на столе руки, дед мрачно курит в углу (там пахнет лучше всего). «Еще не хватало сына пережить», – говорит он и уходит в комнату – реклама кончилась.
Когда ему стукнуло семьдесят, я привез ему семимесячного правнука. «Хороший пацан, – улыбнулся дед, глядя на жизнерадостного ребенка. – Наш человек!»
Через месяц дед захворал и, отказавшись ехать в больницу, умер. Правнука увидел, сына не пережил – реклама кончилась.
На похоронах лежал в открытом гробу, такой же сухой и красивый, как тот шотландский актер, который охранял мать драконов. Бабушка суетилась, чтобы похороны проходили как положено, но иногда замирала и начинала плакать. Мой папа, хоть уже и опохмелился, все равно не мог стоять на ногах – сидел на бордюре возле гроба, руки положил на колени, а голову на руки – любимая поза. Я держал на руках своего улыбающегося сына. Все в сборе: лежащий, сидящий, стоящий и пока висящий.
Когда гроб опустили, я отдал сына жене и помог папе дойти до ямы. «Кинь землю, Володь», – запе-реживала за сына бабушка. Папа лишь махнул рукой: «Чего уж там».
Но это все потом, а сейчас я, подцепив с заднего сиденья свой рюкзак, жму сухую руку деда. Хочу сказать ему, как люблю его, но просто крепко жму руку. Мы мужики – объясняемся по-простому.
Я сажусь на левое заднее сиденье автобуса. В окне вижу разворачивающуюся машину деда, машу рукой. Чтобы и я увидел его руку, дед почти полностью вытягивает ее из окна – получается что-то типа немецкого приветствия времен Второй мировой. Немного передержав сцепление, дед трогается.
Игорь Станкевич

Родился в 1958 году. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, Самарскую государственную экономическую академию. Герой РФ. Полковник в отставке. Депутат Государственной Думы VII созыва. Награжден орденами Дружбы, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
Старик
Отряд работал в отдаленном кишлаке. День выдался тяжелый. С утра и до обеда не прекращался прием больных. Условия, далекие от «союзных». Представьте стол под деревом, а за ним врач и фельдшер с переводчиком. Вокруг стояли и сидели на корточках афганские мужчины. Медсестра в одиночку осматривала женщин, которые теснились перед глинобитным домом в одно окно. В нем она и работала. Часам к трем поток больных прекратился. Честно говоря, чувствовал себя как выжатый лимон. Да и остальные были на пределе.
Осмотрел последнего больного. Им был старик. Почерневшее от длительной работы в поле лицо сплошь покрыто морщинами, жидкая седая борода, ветхая одежда, согнутая спина ничем не выделяют его среди других. Он взял назначенные ему таблетки. Переводчик разъяснил, как их принимать. Афганец кивнул головой, понял. Отошел на два шага, вернулся, попросил повторить еще раз. Лейтенант повторил. Тот опять кивнул, что-то переспросил. Снова не понял. Подошел афганский партийный работник, начал объяснять, раскладывать таблетки по бумажкам, писать порядок приема. Больной кивнул, все понял, только уточнил: «А можно все вместе?» Тут я не выдержал, встал и отошел в сторону. Чувствую, что не прав, но боюсь сорваться. Фельдшер, молодец, продолжает разъяснять. Партийный работник извинился за своего земляка, постарался помочь делу.
Наконец-то ясно. Все облегченно вздохнули. И тут переводчик переспросил у пациента порядок приема таблеток. Тот внимательно посмотрел на него и сказал: «Белые таблетки съесть утром, до еды, а желтые вечером, после ужина». Стон вырвался из груди фельдшера.
Партийный товарищ предложил компромиссный вариант: заменить таблетки на какие-нибудь безвредные и отпустить старика с Аллахом. Но профессиональная гордость не позволила нашему переводчику отступиться. Он отогнал всех и начал кропотливую работу: разложил по бумажкам таблетки на каждый прием, объяснил все сначала. На столе его стараниями появилось порядка сорока сверточков-шариков с лекарством. Но его система не действовала. Тогда он перешел на русский язык:
– Слушай, дед, последний раз объясняю. Одна таблетка – утром, после того, как первый раз поешь. Две таблетки – днем, когда солнце высоко-высоко в небе. И одна – вечером, когда спать пойдешь. Понял? – Афганец изумленно взглянул на него, потом радостно улыбнулся, закивал головой. – Ну, наконец-то дошло. Иди с миром.
Больной собрал все бумажки с пометками «утро», «обед», «вечер», положил их в пакетик и ушел. Мы начали живо обсуждать дар убеждения нашего лейтенанта. Только веселье продолжалось недолго: вернулся старик.
Одна таблетка – утром, после того, как первый раз поешь. Две таблетки – днем, когда солнце высоковысоко в небе. И одна – вечером, когда спать пойдешь. Понял? – Афганец изумленно взглянул на него, потом радостно улыбнулся, закивал головой. – Ну, наконец-то дошло. Иди с миром.
Он подошел к лейтенанту, что-то быстро-быстро заговорил, а потом положил перед ним стопочку аккуратно разглаженных синеньких бумажек, в которые тот с таким старанием завернул ему таблетки. Старик достал пакет, сунул его каждому из нас под нос с тем, чтобы убедились в целости лекарств, и пообещал беречь таблетки, никому не отдавать, показывать детям, а через много лет их детям, рассказывая, как хорошо его лечили советские врачи. Только сегодня он понял, что среди русских есть и хорошие люди, поэтому и вернулся сказать им самые добрые слова. А таблетки он есть не будет, они на память. Завернув пакетик в платок, он, умиротворенный, отправился домой.
1989 год
Пуля
Пуля была очень умной. Она никогда не вмешивалась в разговоры своих соседок по запаянной в цинк картонкой пачке. Они не умели мечтать и болтали о чем попало. А Пуля хотела свободы. Хотела выполнить предначертанное, а потом уйти в полет и лечь там, где ей захочется. И почему она не попала на родной полигон? Лежала бы сейчас на горячем песке и нежилась под горячим солнцем. Так нет же, ее отправили в богом забытую дыру, хотят выпустить по русским. А это значит, что она может удариться в броню, и тогда будет сорвана прекрасная латунная рубашка, брызнет во все стороны свинец, разобьется стальное сердце. И даже если ей повезет и она только коснется брони, то превратится в калеку, валяющегося на пыльной обочине. А машина, которую незадачливый хозяин попытается подбить, даже и не заметит удара. Еще хуже попасть в тело человека: тебя вытащат из раненого, просверлят, сделают амулет, а когда надоест носить на шее, забросят в угол тумбочки или шкафа и только раз в год, по пьяни, достанут и покажут друзьям. А если убьешь человека, то будешь гнить в одном гробу с жертвой.
Нет, она сделает по-другому. И произойдет это очень скоро, ведь не зря вскрыли цинк, разорвали бумагу и каждую из них вставили в гнездо пулеметной ленты. Пуля почувствовала приближение боя. Скоро наступит ее черед.
Рано утром хозяин переговорил с бородатыми людьми и пошел к Дороге. «Саланг», «Хинджан» – только эти слова услышала Пуля перед тем, как афганец залег за камни и стал ждать. Соседки, предвкушая полет, тарахтели без умолку. Ей же не о чем было говорить. Она все решила.
Колонна бронемашин спускалась с Саланга. Вот он, ее звездный миг. Ну, что же ты медлишь, хозяин? Тот не спеша навел пулемет, взял упреждение и нажал на спусковой крючок, держал его долго, пока не замолк закрепленный на станке пулемет.
Пуля вырвалась из тесного ствола и в одном рое с другими бросилась на первую облепленную людьми машину. Ее подруги ударили по броне, оставив на ней еле заметные следы, врезались в триплек-сы, и те, не выдержав, брызнули в стороны бриллиантовым дождем. Но ни одна не задела людей. Только Пуля, как самая хитрая, издали выследила чуть-чуть возвышающуюся на броне БТР голову водителя, едва чиркнула по ней и с радостным свистом полетела прочь. Она сделала это! Пуля оглянулась и засмеялась: водитель упал внутрь, и бронетранспортер, никем не управляемый, понесся под уклон. Больше она ничего не увидела: прикосновение к голове солдата изменило ее полет, и Пуля врезалась в скалу. Гранит сорвал латунную оболочку, расплющил сердечник, разбрызгал по пыли свинец.
Пуля вырвалась из тесного ствола и в одном рое с другими бросилась на первую облепленную людьми машину. Ее подруги ударили по броне, оставив на ней еле заметные следы, врезались в триплексы, и те, не выдержав, брызнули в стороны бриллиантовым дождем.
А БТР не слетел в пропасть. Он врезался в бок стоявшего на обочине танка, качнул его и остановился. Людей сорвало с него, как переспевшие яблоки, и бросило на несколько метров вперед. Подбежавшие водители и танкисты подняли двоих на краю обрыва, троих сняли с танка, водителя с окровавленной головой вытащили из люка. Раненых, поломанных и ушибленных, загрузили на броню и повезли в госпиталь. БТР стоял «открыв рот» – передние броневые листы разошлись от удара. Двигатели и коробки передач сорвало с креплений. Передние колеса развернулись в разные стороны. БТР зацепили и потянули на ремонт, так же как повезли на ремонт людей, которые через месяц-два снова были на Саланге – и их снова выслеживала чья-то пуля.
Татьяна Таран

Татьяна Таран – журналист и писатель. Окончила филфак ДВГУ, работала журналистом, редактором газеты.
В 2018 году была участником Московской международной книжной выставки-ярмарки с книгой «Никто не ангел».
В 2018–2019 годах принимала участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России». Публиковалась в альманахах «Власть книги» «Новый Континент» «Эксперимент». Рассказы переведены на китайский язык. Является автором двух книг художественной прозы. В 2017 году вышла первая книга «Список мечт». В 2018 году – сборник рассказов «Никто не ангел». В издательстве «Художественная литература» готовится к выходу роман «Дорога на Горностай».
Ловец солнца
Рассказ
На закате солнце светит прямо в лицо. Я понял это давно, охотясь за ним, уплывающим в океан. Сто девяносто две секунды отводит мне для этого Вселенная. Иногда я успеваю поймать небесное светило в объектив, но чаще всего остаюсь ни с чем.
– Не жди у моря погоды! – скажет мне всякий, и будет прав.
Но я упрямо хожу к океану третий десяток лет подряд. Жду те самые секунды, забываю обо всем, не слышу шум волны, сжимаюсь в пружину, унимаю дрожь в руках. Как снайпер, закрываю глаза и снова резко их открываю, чтобы не съехала «картинка», не расплылась в видоискателе. В руках живое существо, дрожат лепестки его диафрагмы, сжимаясь от моей команды. Я знаю диаметр, при котором будет лучший эффект, и мне нужна выдержка, чтобы не упустить тот самый миг и вовремя спустить затвор. Не всякий раз мне это удается, но я не сдаюсь.
Сегодня у меня будет новая точка съемки. Присмотрел ее давно, еще весной, но ждал, когда сойдет лед с залива, море потеплеет и станет синим. Вы знаете, что цвет моря зависит от погоды? Чем больше солнца – тем ярче синь, тем белее буруны на прибрежных валунах, тем приветливее волна. Если же дождь и пелена стеной – то море серое, побитое рябью; от него веет холодом, безразличием.
В июльские дни найти безлюдный городской пляж – задача сложная, невыполнимая, и я уезжаю в бухты за городом. Здесь тоже найдутся люди у воды: рыбаки, влюбленные парочки, серферы, искатели приключений…
Не близкий мой путь – в одну из бухт острова Русский, в часе езды от городских кварталов. Дорога сюда пыльная, тряская. Наградой за волю и терпение будут чистое море и диковинный закат. На противоположном берегу горбятся сопки, а между ними – пролив с выходом в открытый океан. Воображение рисовало алый круг, горящий в золоте. Мне виделось так: едва солнце коснется воды, в этот момент его обнимут два зеленых острова, сторожащих вход в узкий пролив. Все это я уже наблюдал весной, но не было нужной цветовой гаммы, не было тепла, не настоялось еще море.
В той бухте я присмотрел удобное для съемки место. С правой стороны высокая скала защищает от ветра. Слева – галечная коса ведет на соседний остров. Она перемывается невысокой водой, и по ней, закатав штаны по щиколотки, бредут пилигримы туда и обратно, не интересуясь правой частью берега.
Я предвкушал одинокую охоту на солнце, на водную глазурь, на выпрыгивающих из воды рыб, на чаек, норовящих поймать их на лету. Вот последняя развилка и деревянный щит-указатель, примотанный проволокой к стволу дерева. Он ориентирует меня большими красными буквами: «К Шкоту направо!» Шкот – фамилия первооткрывателя этих мест. В честь него назвали необитаемый остров, к которому и ведет та морская тропа по косе.
В эту переходную пору от вечера к ночи природа становится объемнее, ярче контуры, макушки сопок очерчивают резкую границу между землей и небом. А вот утесу суета ни к чему – он здесь как глыба, его не сдвинуть и не сломить.
Подъезжаю к морю, вижу его синие проблески среди деревьев. Через открытое окно джипа вдыхаю густые запахи влажного леса. Он здесь редкий: морской климат не дает буйства флоре, а прибрежная сырость приходится по вкусу лишь высоким травам да мхам.
Дорога обрывается в десятке метров от берега. Дальше можно еще проехать по песку, но никто не рискует: увязнуть здесь можно быстро, а выбраться – только с лебедкой, привязанной к крепкому дереву на небольшой поляне. На ней я вижу с десяток других машин. Мысленно желаю себе не встретиться с их хозяевами на моем заветном месте, пусть все уйдут налево, по косе. Зачем мне суета и шум при ловле солнца?
Надеюсь, мне никто не помешает. Разве только облака, которые обычно виснут над морем, липнут к нему, цепляют нижним краем океан, заигрывают с ним, выстраивают замки из белой ваты, населяют их летучими голландцами и фантастическими животными. Их я тоже снимаю, их тысячи уже в компьютере, неповторимых, как отпечатки пальцев. Но мне нужно солнце, я жду его с той самой минуты, когда ушел последний лед с залива.
Место будущей съемки не видно со стоянки. Сейчас обогну крутой мыс, пройду мимо старого воинского укрепления с надписью «Алинка + Пашка = любовь», и тогда откроется небольшой каменистый пляж, на котором я присмотрел себе основательный плоский валун. Штатив на нем будет устойчив.
Завернул за бетонный полукапонир, от него метров сто идти всего. Картина на море открывалась чудесная: все как я хотел. Чистое небо и яркое, склоняющееся к горизонту солнце. Все будет «вери гуд»! Подошел еще ближе и увидел, что перед скалой кто-то сидит. Я даже выругался про себя и хотел тут же повернуть назад. Не люблю, когда наблюдают за съемкой, начинают многозначительно смотреть в ту же сторону, что и я, будто спрашивая своим видом:
– Ну, и что ты там нашел такого необычного? Море как море, небо как небо. Баловство!
Прохожу еще несколько метров по сырой гальке, и звук от ее шороха доходит до незваного гостя. Хотя кто тут незваный? Я позже пришел, а место уже занято.
Девушка там. Разглядел блондинку. Повернула голову на шум, смерила меня взглядом. Увидев штатив, решила, что не опасен, снова отвернулась к морю. А если не фотограф, а маньяк какой-нибудь? Отчаянная… В таком месте в одиночку.
К счастью, мой голыш был ближе, чем камень, на котором сидела девушка. Я решил, что не нарушу ее уединение, занимаясь своей работой. В конце концов, море общее, и берег тоже. Еще минут пятнадцать в моем распоряжении. Это будут отличные кадры! Чистый горизонт, нависший над ним оранжевый шар.
Чем ниже опускается солнце, тем насыщеннее краски. Сначала огонь опаляет все пространство вокруг себя, пускает светлую дорожку по спокойному морю. Нижнюю точку солнца при входе в океан я ловлю, не мигая. Есть! Следующий кадр – с разливающимся по воде желтым светом. Постепенно снижаясь, раскаленная звезда впитывает в себя энергию моря, добирает густоты цвета. Вода становится темной, дорожка, бегущая прямо на меня, размывается, тает. А само солнце становится ослепительно белым.
Как только половина шара погрузилась в темную синеву, сразу стал четким его абрис. Идеальная гармония формы и цвета! Все темнее пространство вокруг, все призрачнее, как мираж, горизонт. И вот этот миг, ради которого я здесь: солнце становится совсем маленькой, едва различимой белой точкой в алом отсвете своих протуберанцев. Последняя секунда, и все… Как будто не было другой картины всего лишь три минуты назад! И не было прошедшего дня. Все ушло в небытие.
Работа сделана. Остается еще час до того, как совсем стемнеет. В эту переходную пору от вечера к ночи природа становится объемнее, ярче контуры, макушки сопок очерчивают резкую границу между землей и небом. А вот утесу суета ни к чему – он здесь как глыба, его не сдвинуть и не сломить. Я посмотрел направо, как будто убедиться в этом сейчас крайне необходимо.
Надо же, в охоте на солнце я забыл о девушке, тоже наблюдающей закат. Сейчас она стояла на том большом валуне, на котором прежде сидела. Наверное, хотела увидеть картину с высоты. Но это бессмысленно! Если только на сам утес забраться, но лучше не рисковать, иногда с него на берег валятся огромные камни. Потом их шлифует море, делая из них удобные сидячие места в этом зрительном зале с видом на океан.