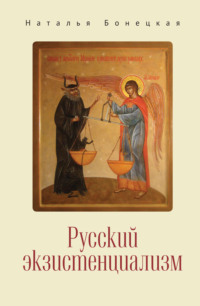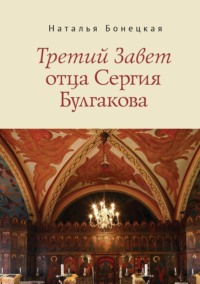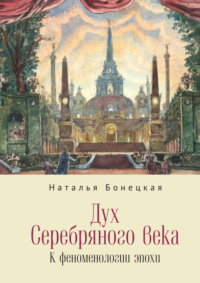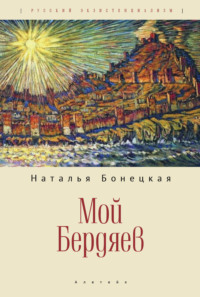Полная версия
Бахтин как философ. Поступок, диалог, карнавал
Бахтин не ставит перед собой задачи разрешить какой-либо теоретический вопрос – например, преодолеть пропасть между субъектом и объектом познания, что служило точкой отсчета, в частности, и для многих русских мыслителей. Он строит свою систему как бы заново и изначально придает ей чисто описательное качество. Элемент бытия, поступок, предполагает личность, нравственно ориентированную на другую личность. Мир для Бахтина в своих глубинных истоках диалогичен: этический космос состоит из множества диалогических пар, при этом каждая архитектоническая точка оказывается связанной с любой другой через цепь диалогических контактов.
Для Бахтина «быть – значит общаться диалогически»[43]; именно это положение книги о Достоевском есть, видимо, его исходная интуиция бытия. Архитектоника мира конкретного поступка описывается с помощью трех категорий: я-для-себя, другой-для-меня, я-для-другого, к ним же сводится, в конце концов, бахтинская ситуация диалога. Бахтинская философия (вероятно, мы вправе говорить о совокупности воззрений мыслителя как о философии, хотя она, будучи изначально теорией ценностей, свои возможности полностью развернула в области эстетики) есть первая и единственная на русской почве философия диалога. Идею диалога на протяжении своей творческой жизни Бахтин проводит по всем ее логическим ступеням.
В «Философии поступка» речь идет об ответственном деянии, бытии как таковом. Оно не существует до и вне личности, поэтому логически одновременно, вместе с деянием, в системе Бахтина появляется поступающая личность. «Автор и герой в эстетической деятельности» – прежде всего, это феноменология «я». Но «я» без «ты» пусто – эта мысль Фихте была органично усвоена русской философией. С логической неизбежностью вслед за «я» Бахтин вводит «другого» — самоценного (по Канту) этического «другого». После этого бахтинские представления становятся феноменологией постепенно углубляющегося диалога. Начинаясь на поверхностных – телесном и душевном – уровнях личностного бытия, диалог в системе Бахтина доходит до бытийственных духовных недр: в общение, по Бахтину, вовлечено вечное начало человека, существование которого мыслитель признает, более того, считает верховной ценностью, но не трансцендирует за пределы общечеловеческого опыта. Описанию духовного – равноправного диалога посвящена книга о Достоевском: по Бахтину, специфика поэтики Достоевского – это изображение человеческого духа (тогда как до Достоевского умели изображать только душу и тело). Таким образом, в «Философии поступка» и в «Авторе и герое» Бахтин дает феноменологию «я», в книге о Достоевском – описание диалога «я» и «ты», но в творчестве Бахтина представлена и логически третья ступень – именно ситуация подчинения «я» другому, а говоря словами Бахтина, – ситуация «одержания» «я» другим. Именно ее Бахтин рассматривает в книге о Рабле. Тем самым его философия диалога оказывается логически полной и завершенной.
Наша конкретная задача сейчас – попытаться определить место Бахтина, как создателя своеобразной «философской антропологии», в кругу русских мыслителей. Русская философская мысль, единая в самых общих бытийственных интуициях, в будущем должна быть аналитически разъята на школы, направления, традиции. И для нашей цели сейчас хотелось бы указать на существование в предреволюционной России двух ведущих философских школ, связанных генетически с Петербургским и Московским университетами. Их характер соответствовал духу обеих русских столиц: петербургское направление отличали отчетливая ориентация на западную мысль, некоторое религиозное вольнодумство, тяготение к строгой научности и системности, вообще, говоря прямолинейно – прогрессизм, стремление быть на уровне западного философского развития. Напротив, московская школа была вызывающе консервативна. Свои истоки ее представители ищут не только в православно-церковном опыте, но спускаются до средневековых и античных, даже и до первобытных корней современного человечества. Достаточно сказать, что Флоренский, крупнейший «московский» философ, отрицал коперниковскую гелиоцентрическую картину мира в пользу геоцентрической системы Птолемея. Среди философов петербургской школы назовем в первую очередь С. Франка и Н. Лосского; менее оригинальными ее представителями были И. Лапшин, С. Гессен, Б. Яковенко, Г. Гурвич. Все это ученики, в самом буквальном смысле слова, профессора А.И. Введенского (1856–1925), с конца 80-х годов XIX в. вплоть до 20-х годов XX в. читавшего в Петербургском университете ряд философских курсов, логику и психологию. Бахтин, чьи университетские годы совпали с Первой мировой войной, также прошел через влияние идей Введенского и вполне может рассматриваться в ряду названных «петербургских» мыслителей. «Московские» же философы – это софиологи С. Булгаков, Е. Трубецкой, П. Флоренский, а также В. Эрн. И если мы говорим о Введенском как о главе петербургской школы, то С. Трубецкого и Л. Лопатина можно рассматривать в качестве учителей Флоренского и Эрна.
Но в какой степени все же правомерно делать это – считать Введенского учителем Бахтина, а Лопатина – учителем Флоренского? Как правило, в науке глава направления – он же и виднейший его выразитель; новозаветное «ученик не больше своего учителя» весьма часто оправдывается именно в истории научной мысли. Между тем имена философов русского ренессанса XX в. сейчас известны всему миру, тогда как их наставники по университету видятся в лучшем случае столпами академической науки, и их значение не выходит за пределы русского просветительства. Однако обойдем молчанием вопрос, кто больше: Введенский или Бахтин. Если иметь в виду нынешний авторитет обоих мыслителей, ответ на него очевиден; будучи же понят в своей последней серьезности, этот вопрос слишком глубок и сложен для разрешения его в настоящее время. Несомненными нам видятся здесь два момента. Во-первых, налицо очевидная преемственность Бахтина в отношении ключевых проблем и интуиций Введенского. Само русло философствования Бахтина определилось, надо думать, не без влияния этого самого правоверного русского кантианца (характеристика, данная Введенскому В. Зеньковским). Во-вторых, Введенский духовно принадлежит XIX в., тогда как стиль и пафос Бахтина – всецело в XX. Кстати, то же самое можно сказать о соотношении Лопатина и Флоренского. Со стороны «учителей» мы видим академическое разрешение традиционно живущих в науке (прежде всего западной) ставших классическими, проблем; «ученики» же философствуют словно на пустом месте, ставя целью построение беспредпосылочных «первых философий» («первой философией» является не только «философская антропология» Бахтина, но и «Столп и утверждение Истины» Флоренского). Главное же, они откровенно идут от собственного интимного, экзистенциального опыта: что как не феноменология опыта любви и дружбы – «Автор и герой» Бахтина?[44] В чисто эмоциональном отношении между учителями и учениками – пропасть: с одной стороны, академическая уравновешенность, с другой – предельно личная, страстная мысль. Именно в «учениках» человек второй половины XX в. (и первых десятилетий века XXI) узнает себя, – отсюда и современный интерес к ним.
Основной водораздел между петербургской и московской школами можно провести через отношение к Канту и кантианству. Русская философская мысль XIX в. жила волей к обретению самостоятельности; и как московская, так и петербургская школы в лице их основоположников стремились выйти за пределы кантианских представлений. Но преодоление Канта Лопатин и Введенский понимали весьма различно. Критика Канта со стороны Льва Михайловича Лопатина носила характер принципиального отрицания. Убежденность в необходимости метафизики старого, докантовского типа, рациональной и религиозной одновременно, признание права непосредственного, обыденного мироотношения, уже давно расцененного как наивное и устраненного из сферы науки, наконец, вера в мистическую природу познания – эти и близкие им идеи были оформлены Лопатиным в лозунг «Вперед, от Канта!» (Настоящее и будущее философии. М., 1910. С. 28). Кант – «столп злобы богопротивной»; это выражение Флоренского как нельзя лучше передает характер полемики с кантианством учеников Лопатина, – полемики, ведшейся за пределами научной добросовестности и корректности. Совсем иную картину можно наблюдать в петербургской школе: Введенский целиком принимал основы гносеологии Канта, прежде всего идею опытного характера научного знания, но в своей исключительной добросовестности и кантианской «правоверности» доводил их до абсурда. Однако, зайдя на путях Канта в тупик, выход он искал тоже с помощью Канта. Его последнее слово – призыв к построению этической метафизики, отправляющейся от признания бытия чужой индивидуальности, и здесь лишь маленький собственный шаг вперед по сравнению с провозглашенным самим Кантом «приматом практического разума». У Лосского, Франка и Бахтина мы уже находим этически окрашенные метафизические системы. И хотя концепции Лосского и особенно Франка, будучи разновидностями русской философии всеединства, очень близко подходят к софиологическим построениям «москвичей», они сохраняют в ряде своих интуиций печать происхождения от русского кантианства. Петербургская школа преодолевает кантианство изнутри, не столько отрицая, сколько трансформируя его достаточно гибкие основоположения. Итак, отречение от Канта, с одной стороны, и снятие его идей – с другой: именно здесь разница в тенденциях философских школ Москвы и Петербурга.
Обратимся теперь к петербургской школе. Говоря о творчестве ее основоположника и главных представителей, мы попытаемся указать на «первичные интуиции» их философствования: нам близка идея А. Бергсона, согласно которой творчество философа – это раскрытие, разворачивание одного или очень немногих интуитивных прозрений в бытие («Философская интуиция»). В полной мере это утверждение применимо к Введенскому, настоящему моноидеисту. Оппозиция «я» и «другого», которую Холквист и Кларк считают краеугольным камнем системы Бахтина, есть та ось, вокруг которой постоянно движется и мысль Введенского. Разумеется, у учителя она присутствует совсем в ином философском контексте. Прежде всего Введенский не только философ, но еще и психолог, – противопоставление «я» и «чужой душевной жизни» в воззрения Введенского входит вратами психологии. То, что душевные явления изучаются, во-первых, с помощью самонаблюдения, и во-вторых, через внешние проявления другого лица, было общим местом психологии XIX в. «Я», как чистая активность, и «чужая душевная жизнь», явленная в телесных признаках, прообразуют в системе Введенского отношения «автора» и «героя» в трудах его ученика[45]. Основной философский вопрос, занимающий Введенского, – вопрос гносеологический, ключевой вопрос XIX в.: как возможно познание, как преодолевается – и преодолевается ли вообще – бытийственная бездна между субъектом и объектом? Введенский ставит этот вопрос сначала в плане психологии – как проблему познания чужой душевной жизни, но как бы с неизбежностью переходит затем в область этики. Принципиально важно – в связи с проблемой философских истоков Бахтина, что во «Введении в философию» (1890), в книге «О пределах и признаках одушевления» (1892), в «Психологии без всякой метафизики» (1917), в «Лекциях по психологии» (изд. 1908 г.), без исключения во всех трудах Введенского речь идет о познании человеческой личности. И поскольку, неуклонно следуя кантианской традиции, Введенский ограничивает область достоверного знания пределами опыта, он приходит к выводу о невозможности адекватного познания чужой души. Более того, всякий вправе отрицать душевную жизнь всюду, кроме как в себе самом, поскольку, строго говоря, извне могут быть наблюдаемы лишь телесные изменения. Скрупулезный сторонник имманентной природы знания, Введенский считает, что в познавательном акте познающее «я» имеет дело со своими же собственными порождениями, собственными «объектированными» состояниями[46]. В частности, и при общении с другим человеком я представляю себе «вовсе не чужую, а свою собственную душевную жизнь, помещенную в условиях, при которых происходит чужая»[47]. Введенский полагает начало обсуждению на русской почве проблемы «вчувствования», и, зайдя на путях добросовестнейшей имманентной гносеологии в тупик солипсизма (тупиковый вывод о невозможности обосновать чужое «одушевление» он называет «законом Введенского»), следуя Канту, совершает скачок в область этики и веры. В сфере разума метафизики построить нельзя; но нравственное чувство говорит мне о существовании живых существ, подобных мне самому. И отправляясь именно от него, следует конструировать метафизику, первую философию. Этим призывом логически кончается система Введенского, и здесь же – исток философствования Бахтина, его ученика. «Началом для нашего мышления служит не Я, а Мы»; «Изолированный субъект есть метафизический призрак»[48]: не находим ли мы в бахтинской теории диалога доскональную проработку именно этих интуиций его университетского наставника?
Представляется, что проблема «ученичества» Бахтина в отношении Введенского так важна для понимания творчества Бахтина, что ей следует посвятить самостоятельное исследование. Сейчас же мы лишь укажем на интуиции Введенского, присутствующие и у Бахтина, по нашей гипотезе, воспринятые им через учителя (именно в этом нам видится существо «ученичества» создателя русского варианта теории диалога). Подражая Декарту, Введенский начинает с сомнения (сомнение признается за ценность и Бахтиным); достоверным ему представляется лишь деятельное бытие его «я». «Я» же как таковое – это чистая активность, активность «объектирования», полагающая свое «не-я»; категории Введенского и его школы – «я» и «не-я» – восходят все же скорее к Фихте, чем к Канту. Важно то, что динамизм, «незавершенность» глубин человеческого бытия – интуицию, характерную для Бахтина, мы находим и у Введенского. И «я» настоятельно требует своего «не-я»; в том же смысле коррелятивны «автор» и «герой» Бахтина. Далее, Введенский настаивает на принципиальной другости, инаковости чужого сознания в отношении «я»: «не-я» никак не пересекается с «я», и это – частный случай логического закона противоречия. Здесь Введенский принципиально расходится со своими учениками-метафизиками, Лосским и Франком: сторонники религиозной онтологии всеединства, они обосновывают определенное «единосущее» человечества. Но убеждение Бахтина в этом вопросе то же, что и у учителя. Бахтин строит свою философию диалога на фундаменте идеи «вненаходимости», – иначе, уникальности каждой архитектонической личностной точки бытия. Однако где для Введенского – гносеологический тупик (солипсизм), там для Бахтина – отправной момент плодотворных изысканий. Бахтин избегает исхоженных путей умозрительного философствования: он уклоняется от лобовой постановки проблемы у Введенского – как познать другого, эту таинственнейшую вещь в себе, самоценную, наделенную последней свободой («Лекции по истории новейшей философии»). Действительно, в такой формулировке, без принятия метафизических предпосылок (на этот путь становятся Лосский и Франк) основной гносеологический вопрос неразрешим. Но можно задаться целью просто описать – но досконально, углубленно – то, что происходит в действительной жизни, в ситуации человеческого общения. От чувства своей «другости» другому и от переживания своего последнего одиночества человеку никуда не уйти; но можно оговорить этот момент, пояснив, что речь идет о ситуации эстетической. Заметим, что в XX в. «эстетическое» понимается предельно широко и пересекается с этическим; также и бахтинские категории, в частности «диалог», могут быть поняты двояко. Феноменология общения в «Авторе и герое» проистекает из опыта брака и дружбы, ассимилирует элементы аскетической антропологии (идея покаянного самоотрицания и любовного принятия другого) и эстетики формы (влияние Гильдебрандта). Будучи принципиально «посюсторонней», она при этом применяет к чисто человеческим отношениям религиозные категории (спасение, искупление). В сущности, в своей онтологической глубине, «Автор и герой» – это трактат о созидательной, бытийственной – «спасающей» силе любви, о творении ценностей через любовь, о любви как движущей силе культуры, как силе, дающей особое ясновидение. Повторим уже сказанное: эти мысли в трактате Бахтина имеют неповторимо-личную окраску, но не надо забывать, что представление о любви как познавательной категории к концу XIX в. стало общим местом[49]. Также и Введенский заявляет, что познание другого – правда, в гносеологическом отношении ущербное – осуществляется через сочувствие, любовь («Лекции по психологии»). Примечательно, что, говоря именно о симпатическом познании чужой души, Введенский приводит примеры литературных героев’. ревнивца-Отелло мы понимаем, «объектируя» в нем собственный опыт ревности, но при этом сострадая мавру. Нам кажется, что Введенский интуитивно чувствует проблему познания другого практически так же, как Бахтин, и не может – в рамках гносеологии имманентизма – справиться с нею чисто философски. Укажем еще хотя бы на два поразительных совпадения Бахтина с Введенским. Это мысль о невозможности самонаблюдения (сравни: глаз не может видеть себя – в «Психологии без всякой метафизики» Введенского – с невозможностью себя самого поднять за волосы – в ряде мест у Бахтина и замечание по поводу психологии смерти: свою смерть нельзя не только пережить, но и представить, пишет Введенский) («Психология без всякой метафизики»), – у Бахтина ту же интуицию мы находим в связи с анализом эпизодов смерти в произведениях Толстого и Достоевского.
Итак, проблему чужой индивидуальности — ключевую для Бахтина – в русскую философию ввел Введенский, передав острый интерес к ней своим ученикам. Деятельность школы Введенского разворачивалась вокруг разрешения именно ее. Один из второстепенных последователей Введенского, Лапшин, доскональнейшим образом проследил становление данной проблемы в европейской мысли начиная с Канта (книга «Проблема чужого Я в новейшей философии», 1910). В связи с самостоятельными идеями Лапшина отметим здесь его принципиальный отказ от метафизики и имманентизм (не переходящий, впрочем, в солипсизм, см. «Опровержение солипсизма»), гносеологический пессимизм (Законы мышления и формы познания, 1906) и логически вытекающую из него попытку решить «проблему чужого Я» как эстетическую, причем на материале художественной прозы (см., напр., труд «Эстетика Достоевского». Берлин, 1923). В книге Лапшина «Художественное творчество» (Пг., 1923) речь идет о взаимоотношениях автора и героя в произведении. Представления исследователя на этот счет довольно противоречивы. По его мнению, герой для автора – внеположная реальность, и можно говорить о симпатии, «артистической любви» к нему автора (с. 77). Но вместе с тем герой – плод художественной «объективации», авторского перевоплощения, и автор познает своего героя вчувствованием в него, отождествлением с ним. Постановка проблемы напоминает бахтинскую, но разрешение ее происходит скорее в противоположном ключе, ключе Введенского. Лишь только упомянув о приложении вопроса о чужом «я» к педагогике у С. Гессена (в его книге 1923 г. «Основы педагогики» говорится о воспитании непрестанно созидаемой, не данной, но заданной личности в духе творческой свободы) и о развитии идей Введенского в оказавшемся, к сожалению, в полном объеме недоступном для нас творчестве талантливого сверстника Бахтина Г. Гурвича (см. его статью «Этика и религия» в изд.: Современные записки. Париж, 1926), перейдем к обсуждению наиболее значительных представителей школы Введенского – Лосского и Франка. Цель наша при этом та же – прояснение истоков взглядов Бахтина и параллелей к ним в русской философии.
Франк и Лосский вплотную подходят к «московской» софиологии, но сохраняют признаки своего «петербургского» происхождения. Софиологическая направленность мышления особенно сильна у Франка. Еще в 1915 г., замыслив, подобно Бахтину, создание «первой философии», Франк заявляет, что гносеологии не может быть без онтологии и что его система есть единство теории знания и бытия („Предмет знания”). Субъект знания переживается Франком не только в качестве познающей активности: «Мы можем сознавать и познавать бытие, – пишет он в «Предмете знания», – потому что мы сами не только сознаем, но и есмы, и раньше должны быть, а затем уже сознавать»[50]. Еще до начала познавательного процесса познающий и его предмет погружены в бытие: «Есть абсолютная сверхвременная жизнь, как единство и основа и всего сущего, и всего мыслимого»[51]. «Всеединство», «абсолютное бытие», «вечная жизнь» – а в поздних работах «реальность», «иное» Бога – эти термины онтологии Франка соответствуют Софии в традиции Соловьёва – Флоренского (см. его книгу «Реальность и человек», 1949). И условие, необходимое и достаточное для познания, заключено именно в приобщенности обоих его участников к бытию – так упраздняется роковой провал между субъектом и объектом знания, решается основная гносеологическая проблема[52]. Франк поднимает ее и в плоскости этики: общение для него – одна из форм «живого знания», действительного проникновения в реальность. Но в отличие от Бахтина, на первый план в дружбе и любви он ставит момент вчувствования, слияния с другим; и это не «объективирование» себя в другом, но реальное осуществление всеединства. «Мы» для Франка – прежде, чем «я» и «ты»; встреча «я» и «ты» возможна вообще лишь на основе «мы». То, что у Введенского присутствует в форме краткого тезиса, у Франка разворачивается в этическую систему[53]. Как и у Бахтина, представление о личности у Франка изначально социально. Но главное для Франка – это интуиция всеединства, соборности, доходящая до интуиции Церкви (см.: «Крушение кумиров», 1924; «Смысл жизни», 1925; «Духовные основы общества», 1930; «Реальность и человек», 1949), тогда как для Бахтина существен диалог, общение двух «я». При этом Бахтин в 1920—1930-е годы определяет свое представление в качестве марксистского.
Онтология Лосского очень близка к представлениям Франка, – также и в жизни между этими двумя мыслителями, считавшими себя учениками Введенского, существовали приязненные, дружеские отношения[54]. Лосский тоже пишет о мире как духовном всеединстве, как об организме, члены которого – «субстанциальные деятели» – подчинены «высшему субстанциальному деятелю», т. е. Богу. В книге 1917 г. «Мир как органическое целое» прямо говорится о софийности мира и излагается учение о грехе. Но метафизика Лосского сильнее, чем взгляды Франка, связана с представлениями Введенского. Она возникла на путях разрешения «проблемы чужого Я» и сохранила в себе, разработав ее, оппозицию «я – другой». Следуя имманентным взглядам В. Шуппе, Лосский различает в «я» «мое» и «данное мне»; через этот ход мир оказывается включенным в содержание самосознания[55]. Таким образом, объект познается прежде всего непосредственно-интуитивно, бытие же оказывается освоенным личностью и определяется как единство субъекта и объекта[56]. Произведения Лосского переполнены параллелями с интуициями Бахтина. Именно Лосский в рассматриваемом ряду мыслителей возвращает права душе как некоей субстанции («психология без метафизики» Введенского говорит только о душевных процессах) и отделяет ее, существующую во времени, от вневременного духа, связывая с последним «я» и «личность»[57]. Затем Лосский определяет «я» (отграничив вначале «данное мне») как чистую активность, как волю, поступок («Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»). В связи с этим Лосский детально анализирует книгу авторитетного для Бахтина Г. Когена «Теория опыта у Канта». Далее, в представлениях Лосского объект становится объектом в отношении субъекта, когда он попадает в кругозор (термин Бахтина) познающего («Мир как органическое целое»). Диалектически объект и в субъекте, и вне его, – это же представление можно увидеть и у Бахтина. И хотя Лосский меньше внимания уделяет этическому познанию, он в полной мере владеет этой проблемой. В статье «Восприятие чужой душевной жизни»[58] обсуждается теория вчувствования Липпса и ее критика Шелером; для разрешения вопроса о познании другой личности Лосский предлагает свою теорию непосредственного восприятия. И подобно бахтинским представлениям, она имеет эстетический оттенок: «Чужая боль, – говорит Лосский, – не может стать моим переживанием, но она может вступить в кругозор моего сознания, как предмет наблюдения». О познавательной способности симпатии Лосский пишет в связи с анализом идей Бергсона (Бахтин хорошо знал книгу Лосского «Интуитивная философия Бергсона» 1914 года). Наконец, Лосский выходит на проблему ценности, изначально основополагающую для Бахтина, которую решает в онтологическом ключе[59]. Здесь же развернуто говорится о любви как о силе, создающей новый аспект мира. Сопоставляя Лосского с Бахтиным, мы имеем в виду не столько прямое влияние Лосского (хотя и его тоже), сколько перекличку двух философских сознаний.