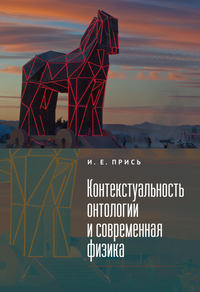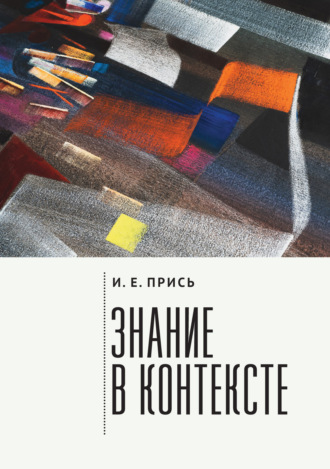
Полная версия
Знание в контексте
На самом деле, чтобы сомнение вообще имело смысл, действительно необходимо, чтобы в чём-то не сомневались. На это указывает Витгенштейн. У Витгенштейна, однако, речь не идёт о догматической уверенности в существовании той или иной очевидности, а о существовании так называемых «петлевых предложений». Это не картезианский эпистемологический фундаментализм. Достоверность ПП прежде всего логическая; мы трактуем ПП как витгенштейновские правила. На первый взгляд, логический характер ПП противоречит ЭСЗ Уильямсона. Для Уильямсона то, что называют ПП, выражение знания и, следовательно, очевидности. Это первое впечатление обманчиво, так как ПП как в-правила укоренены в контекстах своих употреблений, форме жизни, реальности. Они также могут менять свой статус и даже превращаться в ложные эмпирические предложения. И ЭСЗ Уильямсона, и витгенштейновский к-реализм выходят за пределы трансцендентальной парадигмы.
Таким образом, догматическая фиксация скептиком той или иной очевидности фактически означает согласие с тем, что существует абсолютная достоверность. Скептицизм оказывается внутренне противоречивым. Радикальное сомнение скептика в одной области опирается на предполагаемую радикальную достоверность в другой и как бы компенсируется ею. Скептик, по сути, нарушает правила употребления понятий, так как всякая абсолютизация – пренебрежение контекстом, догматическая фиксация правил языковой игры и, соответственно, их неверное или бессмысленное употребление за пределами области своей применимости. Как следствие, в области, в которой эти правила не применимы, возникает радикальное сомнение, которое при ближайшем рассмотрении не имеет смысла, так как смысл теряет сама языковая игра, само употребление понятий. Таким образом, сомнение скептика оказывается бессмысленным, а, следовательно, иллюзорным.
Как уже было сказано выше, ПП играют роль условного «фундамента». На самом деле, как отмечает, например, Ж. Бенуа, Витгенштейн не фундаменталист, но он и не антифундаменталист (Витгенштейн не теоретизирует). Он избавляется от скептицизма менее драматическим способом, чем это делают антифундаменталисты. Дело в том, что мы иногда смешиваем два уровня анализа вопроса: уровень самой постановки вопроса и уровень обоснования ответа на него. Если вопрос действительно имеет смысл, ответ может быть найден в контексте его постановки и проблема фундамента просто не возникает. Она возникает, если мы одновременно находимся на двух уровнях рассмотрения. С одной стороны, мы хотим обосновать ответ на вопрос, тогда как, с другой стороны, мы не уверены в самом вопросе, что приводит к поиску абсолютно достоверного фундамента для обоснования [36, р. 82]. Невозможно одновременно искать правильный вопрос, то есть сомневаться в важности поставленного вопроса, и искать обоснование ответа на этот вопрос, то есть сомневаться в обоснованности некоторого ответа. Но как раз это пытается делать эпистемологический фундаменталист. Его неудача приводит к противоположной (теоретической) крайности – антифундаментализму, утверждающему, что не существует никакого фундамента (некоторые антифундаменталисты, полагая что они верно интерпретируют Витгенштейна, говорят следующее: «Нет никакого фундамента. Есть лишь формы жизни». (Ведь сам Витгенштейн говорит, что если Вы ищете Данное, то даны формы жизни.) Но это минимальный фундаментализм. Витгенштейн предлагает «ортогональное» решение проблемы – терапевтическое. Витгенштейновский терапевтический контекстуализм делает обе доктрины ненужными [36, р. 82].
Аналогичным образом можно утверждать, что скептицизм – результат смешения двух указанных уровней рассмотрения. В частности, скептик может принимать за нечто достоверное видимость, отвергая, что мы знаем, что стоит за этой видимостью, соответствует ли эта видимость реальности. На самом деле, понятие видимости вторично; видимость предполагает реальность. Видимость может основываться только на реальности и имеет свои правила игры. Аналогичная проблема возникает в феноменологии, абсолютизирующей понятие видимости. Таким образом, по самой своей природе исходный абсолютистский (догматический) пункт скептика приводит к своей противоположности – радикальному скептицизму – и содержит в себе потенциал своего собственного опровержения. Это две стороны одной и той же медали. Вообще любой абсолютизм приводит к своей противоположности; он – обратная сторона своей противоположности. Абсолютная «достоверность» приводит к скептицизму. Такая «достоверность» вовсе не достоверность. Сомнение и достоверность имеют условия своей осмысленности.
Имеется также аналогия между скептиком и релятивистом. Принятие абсолютной в смысле не зависящей от контекста, «объективности» приводит к релятивизму. Такая «объективность» вовсе не объективность. Объективность и истина абсолютны лишь при фиксированном контексте. Парадоксальным образом релятивизм оказывается обратной стороной абсолютизма – на самом деле, релятивист, в отличие от контекстуалиста, является слишком абсолютистом (см. следующий раздел); он абсолютизирует содержание (недостаточно внимателен к его зависимости от контекста) и, как следствие, релятивизирует истину, – а скептицизм в известном смысле оказывается недостаточно скептицизмом, так как радикализируя сомнения в некоторой области исследования, в другой области он принимает вещи за абсолютно достоверные. И релятивист, и скептик нарушают правила языковых игр. Такого рода перекосы устраняются в рамках контекстуального реализма. С одной стороны, само понятие контекста предполагает, что истина (при внимательном анализе контекста) «абсолютна», то есть не относительна, объективна (собственно говоря, по самому своему определению истина объективна); варьируется не истина при фиксированном содержании, а содержание в зависимости от контекста. (См. также наш анализ скептической проблемы о внешнем мире и критику эпистемического релятивизма в Главах 1 и 2 Части 3).
14. Контекстуализм vs релятивизм
Чтобы охарактеризовать свой подход, Витгенштейн употребил выражение «лингвистическая относительность» по аналогии с теорией относительности Эйнштейна. Поэтому некоторые считали Витгенштейна лингвистическим идеалистом или релятивистом. Но позиция Витгенштейна не лингвистический релятивизм, утверждающий зависимость того, что существует (онтологии), от выбора языка, а неметафизический, то есть контекстуальный реализм. (См. Главу 1 Части 8.) Именно этот реализм позволяет показать несостоятельность эпистемического релятивизма, сохраняя при этом его антидогматическую направленность (см. Главу 2 Части 3). Но иногда говорят, что к-реализма – релятивизм. Релятивист по отношению к истине утверждает относительность истины, её зависимость от точки зрения, в, частности, от субъективной точки зрения. Предполагается, что истинность предложения может варьироваться, то есть предложение не имеет внутреннего истинностного значения. Процитируем отрывок из нашего интервью с Ж. Бенуа: «Вариабельность значения, очевидно, имеет смысл лишь тогда, когда есть нечто фиксированное. Таким образом, постулируется идентичность этого предложения. В результате одно и то же предложение, в зависимости от случая, оказывается либо истинным, либо ложным. Нужно отметить, что авторы, называемые контекстуалистами, всегда противостояли этой идее. Контекстуалисты, во-первых, принимают, что истинностное значение не вариабельно. В противном случае сама идея контекстуализма теряет смысл, потому что контекстуализм – способ фиксировать истинностное значение. Это способ определить, сказать, что некоторое употребление при некоторых условиях делает некоторую вещь истинной или ложной, что предполагает независимость от произвола субъекта. Если моё высказывание, употреблённое определённым образом в данном контексте, истинно, обычно оно будет истинным и в том случае, если Вы займёте моё место и употребите его тем же самым образом в том же самом контексте. Цель контекстуализма в том, чтобы фиксировать значение истинности. Впрочем, он фиксирует и другие значения, если не ограничиваться лишь случаем нормы истины. С другой стороны, контекстуализм имеет следующий принципиальный момент. Он в том, что очень часто в ситуации, когда есть видимость релятивизма, то есть когда есть странное впечатление, что некоторое содержание в одном случае истинно, а в другом нет, на самом деле случается то, что мы недостаточно внимательно отнеслись к контексту. Мы не посмотрели достаточно близко. Если есть такая кажущаяся вариация и эта вариация не выглядит как зависящая от простого произвола когнитивных агентов, а выглядит как нечто внутреннее, это означает, что, на самом деле, мы не имеем дело с тем же самым содержанием. И если содержание не то же самое, возникает вопрос, почему мы этого не видели, почему не видели, что содержание не то же самое. Мы этого не видели, потому что мы остались на поверхности высказывания, не задались вопросом, каким образом высказывание было употреблено. Может оказаться, что то же самое высказывание не имеет те же самые истинностные значения в различных случаях просто потому, что то же самое высказывание в действительности не хочет сказать, не выражает то же самое и не конструирует тот же самый тип отношения с контекстом. Таким образом, контекстуализм нас предостерегает от того, чтобы не спешить идентифицировать содержание, не приняв во внимание то, что его специфицирует в действительности, – контекст. В этом смысле контекстуализм – терапевтическая стратегия, которая должна нам помешать впасть в релятивизм. Тому, кто нам говорит: ”Посмотри! Нет ничего стабильного! Истина не стабильна, потому что высказывание истинно в одном случае, но не истинно в другом”, контекстуалист ответит так: ”Нет. Ты плохо посмотрел. На самом деле, это не то же самое. Посмотри лучше! Поразмышляй о том, что истинно в первом случае. Если ты достаточно поразмышляешь о том, что истинно в первом случае, если ты примешь во внимание специфичность того, что там говорится, тогда ты придёшь к истине, которая истина для всех. Потому что всякий, кто посмотрит внимательно, о чём идёт речь, придёт к тому же самому результату”.
В этом смысле контекстуализм – антирелятивистская стратегия, идущая до конца, поскольку, по сути, она подрывает сами основы релятивизма. Она атакует основание релятивизма. Парадокс релятивизма достаточно тривиален. В истории релятивизма всегда так. Для того, чтобы релятивизм функционировал, чтобы его можно было анонсировать, предполагается некоторый тип субстанциальной идентичности. Есть нечто фиксированное, сделанное неподвижным, и относительность вводится по контрасту к нему. Контекстуализм выбивает у релятивизма почву из-под ног. Он говорит: ”Вы нечто фиксировали. Вы, релятивисты, вы слишком абсолютисты. Если бы вы были меньше абсолютистами, если бы вы задались вопросом о содержании, если бы вы в полной мере приняли во внимание действительную вариабельность содержания, вы бы поняли, что то, что вы полагаете полностью относительным, а именно истина, не так уж относительно, как вы думаете.”
То, что я говорю, абстрактно, но этому можно придать очень конкретный смысл. Зачастую, когда кто-то говорит нечто в особенной ситуации, – нечто, что вначале нас немного удивляет, шокирует, – мы сразу же, во имя общего принципа, желаем сказать: ”Нет. То, что ты говоришь, неверно!” Но очень часто, если присмотреться, то мы увидим, что в конкретной ситуации то, что говорится, в конечном итоге может быть истинным просто потому, что то, что говорится, приобретает очень специфический смысл, конструирует очень специфическое отношение с реальностью в её конкретной структуре (фр. finesse de son grain). В этом смысле контекстуализм – философская стратегия, которая даёт нам способ преодолеть релятивизм, – немножко автоматический, если хотите, минимальный, релятивизм эпохи модерна. Для меня релятивизм – обратная сторона абсолютизма. Именно потому, что относительно содержания, определения содержания – носителя истинностного значения – релятивисты слишком абсолютисты, в конечном итоге приходят к релятивизму относительно истинностного значения. Нужно поступать в точности наоборот. Нужно тем больше принимать во внимание меру относительности конкретного содержания, чем более непоколебимыми мы хотим быть относительно стабильности истинностного значения, относительно факта, что там, где есть истинное или ложное, это истинное или ложное для всех» [36, р. 93–95].
Витгеншгейн также не эпистемический релятивист, утверждающий зависимость знания (обоснования, истины) от выбора стандартов оценки высказывания «Субъект S знает, что р», которые равноправны. Релятивист, например, может утверждать, что с одной точки зрения прав Галилей (высказывание «Земля вращается вокруг Солнца» истинно), а с другой – кардинал Белармин (то же самое высказывание ложно). Релятивист решает проблему эпистемического несогласия между экспертами, просто постулируя, что все точки зрения истинны. Мы формулируем эту проблему в витгенштейновских терминах различных форм жизни, к которым относятся эксперты, либо (эквивалентным образом) в терминах «нормативного головокружения», когда различные нормы вступают в конфликт и в зависимости от выбора нормативной системы следует признать существование либо того, либо другого (то, что существует с точки зрения одних норм, не существует с точки зрения других норм. Поэтому спор о том, что существует, оказывается неразрешимым, если не обратиться к вопросу о конкурирующих нормах (см. Главу 3 Части 3). С точки зрения контекстуального реализма витгенштейновской относительности, то, что существует, онтология, определённая реальность (а не реальность как таковая) может быть схвачена, описана, объяснена лишь при помощи языка (того или иного вида) и в рамках той или иной перспективы, в контексте (язык и его нормы употребляются в контексте).[82] Не реальность подстраивается под язык, а наоборот, язык подстраивается под реальность. Не все философы считают, что реализм и контекстуализм (или лингвистический перспективизм) совместимы. Уильямсон, например, считает, что Витгенштейн никогда не достиг «равновесия» в своём теоретизировании. По многим темам он разрывался между реализмом обыденного смысла и чем-то вроде инстинкта лингвистического конструктивизма. Он пытался соединить эти две позиции, но никогда не был полностью удовлетворён [частное сообщение Т. Уильямсона]. К-реализм пытается это сделать.
15. Неоперационность эпистемологии сначала-знания
Выше уже было сказано, что обоснование и очевидность в общем случае не доступны рефлексии/интроспекции. Мнение может быть обоснованным, то есть быть знанием, но мы можем не быть в состоянии это знать. И наоборот, мы можем быть уверенными, что мнение обосновано, то есть мы имеем знание и, соответственно, очевидность, но это может быть иллюзия. Знание, очевидность, обоснование не транспарентны. В этом смысле ЭСЗ принимает фаллибилизм, состоящий в том, что мы можем ошибаться относительно нашей очевидности, обоснованности наших мнений, нашего знания. (В то же время вместе с К. Литлджоном можно говорить об «инфаллибилизме» ЭСЗ в том смысле, что обоснованное убеждение всегда истинно (и даже является знанием). (См. Главу 7 Части 5.)) И это относится к большинству ментальных состояний (см. ниже принцип несветимости). Состояния, которые полностью доступны интроспекции и полностью операционны, иллюзия. В частности, оказывается неверным известный принцип «Если Kp (знает), то KKp (знает, что знает)».
ЭСЗ Уильямсона – неоперационная эпистемология, то есть эпистемология с точки зрения третьего лица (объективная эпистемология). Эпистемический статус агента оценивается со стороны, внешним наблюдателем, а не интроспективно, рефлексивно. Не только вопрос знания, но и вопросы обоснования, рациональности, очевидности, относятся к неоперационной эпистемологии. Одним из аргументов в пользу неоперационной эпистемологии является аргумент о несветимости ментальных состояний (anti-luminosity argument).
16. Аргумент несветимости ментальных состояний
Согласно Уильямсону, у нас не всегда есть доступ к нашим ментальным состояниям. В частности, вообще говоря, из Kp (знание, что р) не следует K˥Kp (а из ˥Kp (отрицание знания, что р) не следует K˥Kp. Например, мозг-вбаке не знает, что он ничего не знает о внешнем мире), хотя довольно часто без наблюдения (исследования) со стороны мы находимся в положении, в котором мы имеем доступ к нашим ментальным состояниям: мы знаем, во что мы верим, что мы желаем, чувствуем и знаем, что мы знаем [9]. Аргумент неосвещённости Уильямсона имеет следующий вид: «Ответ от имени эпистемологии сначала-знания состоит в том, что состояния полностью открытые интроспекции и полностью операционным правилам, иллюзия. Всякое нетривиальное состояние таково, что можно в нём находиться, не будучи в положении знать, что в нём находишься. Аргумент в пользу этого заключения имеет следующий вид. Назовём состояние светящимся (luminous), если, когда бы мы в нём ни находились, мы всегда в положении знать, что мы находимся в этом состоянии. Для каждого нетривиального состояния можно перейти из этого состояния в другое состояние посредством очень постепенного процесса. Поскольку наши дискриминационные способности ограничены, в последние моменты этого процесса, в которые мы все ещё находимся в исходном состоянии, мы не можем сделать различие между тем, каким образом мы есть (в релевантных отношениях) и тем, каким образом мы есть в самые первые моменты, в которые мы уже не в этом состоянии. Как следствие, состояние есть не светящееся (luminous) (…). Таким образом, каждое светящееся состояние – тривиальное. В частности, состояния верования, желания и ощущения (feeling sensations) не являются светящимися, потому что они не тривиальны. Можно ощущать боль, не будучи в положении знать, что ощущаешь боль. Можно во что-то верить, не находясь в положении знать, что в это веришь. Равным образом, поскольку знание (knowing) – нетривиальное состояние, можно знать что-либо, не будучи в положении знать, что это знаешь» [24, р. 212]. Таким образом, можно не знать, веришь ли, что что-то имеет место быть, знаешь ли что-то, испытываешь ли некоторое ощущение и так далее. Более того, как показал Уильямсон, можно знать что-то, и при этом очевидность в пользу того, что знаешь это, может быть сколько угодно незначительной. Обоснование этого утверждения требует введения понятия очевидностной вероятности.
17. Очевидностная вероятность
В рамках своей неоперационной эпистемологии Уильямсон вводит новое понятие очевидностной вероятности. Это вероятность, условная на очевидности, понятой как знание. Для самого знания она равна единице, поскольку она условна на самой себе. Чем выше очевидностная вероятность, что р, тем более полным является обоснование мнения, что р. Таким образом, существуют степени обоснованности мнения [9, ch. 10]. Имеет также смысл также говорить об очевидности очевидности. Следствием условия несветимости является то, что можно знать, что p, даже если очевидностная вероятность, что знаешь, что p, сколь угодно близка к нулю. То есть истинное мнение, что мы знаем что-то, может иметь сколь угодно низкую степень обоснованности [41] Уильямсон пишет: «В том смысле, в котором только знание даёт полное обоснование, можно также определить градуированный смысл обоснования, употребляя формулу E= K. Вероятность истинности предложения при данной очевидности становится условной вероятностью на полном содержании знания. Вероятность может быть интерпретирована как степень обоснования веры в это предложение. Структура таких очевидностных вероятностей может быть исследована посредством математических моделей эпистемической логики, иногда с неожиданными результатами. Например, можно что-то знать, даже если на имеющейся очевидности вероятность, что знаешь, близка к нулю» [24, р. 215]. Таким образом, можно знать что-то, не имея почти никакой очевидности (никакого обоснования), что знаешь это.
Выше мы уже говорили, что следует различать концепты вероятности и модальности (см., например, раздел 2.4 Главы 2 Части 1). Пример с лотереей показывает, что вероятностная близость и модальная близость к актуальному миру не одно и то же. Случай 1. Моё истинное и обоснованное мнение, что я не выиграл в лотерею, – не знание, хотя объективная вероятность, что я не выиграл очень высока. Очевидностная вероятность в смысле Уильямсона, то есть условная на очевидности/знании вероятность, тоже высока, но меньше 1. Случай 2. Моё истинное и обоснованное мнение, что напечатанный в газете результат розыгрыша лотереи правилен, то есть не допущена ошибка или опечатка, есть знание, хотя объективная вероятность, что ошибка и опечатка отсутствуют, меньше, чем в предыдущем случае.
Асимметрия между двумя случаями объясняется тем, что очевидностная вероятность во втором случае равна 1 (моё знание есть очевидность. Вероятность, условная на этой очевидности, равна 1). В терминах возможных миров наличие знания в втором случае объясняется тем, что возможные миры, в которых допущена ошибка, не имеют достаточного сходства с актуальным миром, то есть они не являются близкими (релевантными) мирами. Другими словами, модальная близость отличается от вероятностной близости, если принять концепцию объективной вероятности. Напротив, концепты модальности и очевидностной вероятности не расходятся[83].
18. Знание – норма для мнения и утверждения
Согласно нормативной концепции обоснования, обоснованное мнение удовлетворяет некоторому «должно» («ought» или «should»). Как уже было сказано выше, а рамках теории Уильямсона, обоснованное мнение должно быть знанием[84]. В частности, обоснованное мнение не может быть ложным. Необоснованное мнение, однако, может удовлетворять более слабой норме, чем норма знания. Оно может иметь хорошее оправдание. Например, в случаях Гетье истинное мнение не является знанием. Поэтому оно не является обоснованным. В то же время оно является оправданным. Так же и ложное мнение мозга-в-баке не является обоснованным, но имеет хорошее оправдание.
Знание – конститутивная (подобно правилам игры), а не телеологическая, норма для мнения (убеждения) и утверждения, выявляющая реальную сущность (природу) мнения и утверждения[85]: «Верь (утверждай), что p, тогда и только тогда, когда знаешь, что p». Это не операционное правило, так как мы не всегда знаем, что мы знаем. Аргумент Уильямсона в пользу того, что знание есть норма для мнения, имеет следующий вид: «Если никогда не желали рассматривать “Р” как рациональное основание, чтобы что-то делать, даже когда верили “Если Р, то в доме пожар”, то принятие (commitment) “Р” будет слишком слабым, чтобы его считать убеждением (belief). Принимая во внимание связь между знанием и основаниями для действия, отсюда следует, что если верите, что Р, желаете принять решения недефектным образом только в том случае, если знаете, что Р. Это подсказывает простую когнитивную норму: верьте, что Р, только если знаете, что Р. Назовём это правилом знания для убеждения (KRB)» [24, p. 214]. Другими словами, можно говорить об убеждении, если есть готовность принять решение, действовать, исходя из этой посылки. В противном случае это не настоящее убеждение. Но безупречно действовать можно только на основании знания. Следовательно, знание должно быть нормой для убеждения.
Утверждение (assertion) – аналог мнения/убеждения. Если знание – норма для мнения/убеждения, то знание должно быть и нормой для утверждения. Уильямсон пишет: «Утверждение – аналог убеждения в языке. Оно имеет аналог KRB – правило знания для утверждения (KRA): утверждай, что Р, если и только если знаешь, что Р. В точности так же, как парадоксальные верования Мура дают очевидность для KRB, парадоксальные утверждения Мура дают очевидность для KRA. Более того, KRA может быть подтверждено широким набором лингвистических данных. Так же, как и с KRB, оппоненты KRA имеют тенденцию возражать, что это задаёт нереалистически высокий стандарт. Для сторонников KRA такие возражения принимают оправдания за обоснования. Если “аргумент против светимости” корректен, можно нарушить любую нетривиальную норму для утверждения или мнения, не будучи в состоянии знать, что её нарушаешь [Согласно Витгенштейну, в конечном итоге мы следуем правилу (норме) слепо. – Примечание наше]. Оба правила, KRA и KRB, – естественные развития ЭСЗ, так как они подразумевают, что даже не влекущие с необходимостью истину центральные когнитивные установки, такие как утверждение и мнение, нормативно зависят от знания» [24, р. 215].
Подход Уильямсона позволяет объяснить следующий парадокс Мура. Предположим, Мур формирует следующее убеждение или делает следующее утверждение: «Идёт дождь, и (но) я не знаю (или не верю), что идёт дождь.» Интуитивно это убеждение или утверждение плохо сформировано. Это можно объяснить тем, что оно не удовлетворяет норме знания. В самом деле, если знание – норма для мнения и утверждения, то мнение или утверждение Мура удовлетворяет этой норме только тогда, когда Мур знает, что оно истинно, то есть он знает, что идёт дождь, и знает, что он не знает (или не верит, и, следовательно, не знает), что идёт дождь. Но это противоречие.